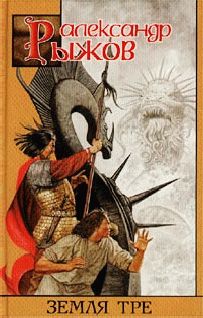Идущие впереди меня поселенцы поочередно, проходя мимо бронетранспортера, произносят «Шабат шалом!» — ну да, сегодня же пятница. И солдаты, сидящие на броне, хором откликаются: «Шабат шалом!». Я шел последним и мучился — пройти молча мимо солдат было бы чем-то вроде демонстрации моей нелюбви к Армии обороны, ну а у меня к ней нет никаких претензий, но и сказать «Шабат шалом!» мне, нееврею, как-то неправильно, я — гость. И, уже набравший воздуху в грудь для приветствия, я говорю: «Счастливо, ребята!». И ребята («засранцы») — двое из троих, сидящих на броне, — также отвечают на автомате: «Счастливо, батя!».
Эпизод на горе Шдема вызывал у меня больше вопросов, нежели что-то прояснял.
Что на горе увидел, скажем, я? Я увидел действо, которое можно было бы назвать «оппозиционным пикником» местной сионистски настроенной интеллигенции, не более того — то есть припаркованные на горе машины, пластмассовые стулья и циновки в тени бывших казарм, завораживающий вид на горы и долины сверху, одноразовые стаканчики, из которых мы прихлебывали теплый кофе, под разговоры про трансформацию понятия «левый» в сегодняшнем мире.
Но тогда причем тут солдаты? Зачем здесь бронетранспортер? И автоматы, которые, извиняюсь, действительно стреляют?
Нет, я понимаю, что это не Европа, для которой война — это страшненькая картинка по ТВ, и от войны телезритель защищен все тем же телеэкраном: кадры носилок с окровавленными телами еще живых людей обязательно продолжатся картинкой с сексапильной блондинкой, рекламирующей новый сорт шоколада, или картинкой с депутатами-клоунами, предлагающими русским солдатам помыть сапоги то в Индийском океане, то в Черном море. В реальность войны Европа на самом деле поверить неспособна. Даже когда взрывают ее саму.
Нет, я — в Израиле. Здесь война, увы, — быт. Только израильтяне ее видят, а я — нет. Про войну, в которой я как бы участвую в этот момент, я знаю умом, и только. Сидя на горе, я любовался безмятежностью голубого неба, сахарным свечением новеньких арабских деревень на ближайших склонах долины, смаковал кофе и мелодику ивритской речи. Московские эпизоды уличных противостояний с милицией на рубеже 80–90-х, в которых я участвовал, казались мне не в пример серьезнее.
Но и с выводами я не торопился. Тут были свои, скажем так, особенности. Ну, например, «война граффити», то есть наличие в том действе надписей, оскорбительных для собравшихся на горе людей. Казалось бы, проблема снимается просто — ведерко белой краски и пятнадцать-двадцать минут работы кистями нашей дружной компании. Но так сделал бы я. Они не делают.
Почему? Возможно, потому, что, в отличие от меня, знают: надписи эти, даже если их замазать, не исчезнут — то, чем они написаны, то, почему они написаны, останется. Хладнокровие, с которым сидящие вокруг меня смотрят на надписи, убеждает меня в том, что тут не игра в противостояние, — у собравшихся здесь людей немного другой жизненный опыт, нежели у меня. И солдаты, которые стоят с автоматами, знают, зачем они стоят.
Да нет, на самом-то деле я тоже знаю. Но — умом. Тот образ, который накапливается во мне по мере освоения реалий израильской жизни и которым я начинаю мерить увиденное, — образ гигантской пружины, сжимавшейся два тысячелетия, свидетелем распрямления которой я сейчас явлюсь, — образ этот у меня наполовину головной.
Короче, мне нужно было съездить в Хеврон.
Хеврон
Сегодняшний статус Хеврона определить трудно.
С одной стороны — один из самых древних, если не самый древний город Израиля. Первая столица Иудеи. Место захоронения иудейских праотцов Авраама, Исаака и Иакова с женами — Махпела.
Над пещерой мемориал, построенный во времена царя Ирода, то есть практически одновременно со Вторым Храмом. Храм разрушили. Мемориал Махпелы остался, пусть немного и перестроенный арабами и крестоносцами.
Ну и просто, Хеврон — большой город со старинными кварталами, расположенный в необыкновенно живописной местности, на границе Иудейских гор и Иудейской пустыни. Езды от Иерусалима сорок минут, не больше.
Короче, город, как бы обреченный быть одной из туристских столиц Израиля.
Но туристов в Хеврон не возят. Более того, в европейских путеводителях по Израилю Хеврон практически не упоминается.
Хеврон сегодня, похоже, самый проблемный город Израиля. Город, поделенный между палестинцами и евреями. Точнее — арабский город с несколькими еврейскими квартальчиками, для охраны которых содержится армейское подразделение, сопоставимое по численности с еврейским населением города.
История Хеврона ХХ века — история арабо-еврейских конфликтов, самыми страшными из которых были еврейский погром 1929 года и расстрел доктором Борухом Гольдштейном молящихся арабов в мечети Махпелы в 1994 году.
Хеврон — весть из тех, ставших историей даже для нынешних израильтян, времен, когда еврей-поселенец рядом с лопатой и киркой вынужден был держать наготове ружье. Только у нынешних хевронских поселенцев к традиционному противостоянию с арабами добавилось противостояние с некоторыми установлениями уже их собственной государственной власти.
Иными словами, Хеврон — это персонификация нынешнего состояния самой идеи поселенческого движения, а может, и самой идеи существования государства Израиль.
В Хеврон меня повез текойский житель Шимон Г. Программист, строитель, реставратор, экскурсовод-любитель и так далее, несмотря на молодость, имеющий более чем приличный и, скажем так, разнообразный опыт жизни «на Территориях» (работал даже в Хевроне в общежитии для евреев), короче — местный поселенец.
Начиналась наша поездка с вполне безмятежного чаепития в доме Игоря, после которого мы вышли к припаркованной под пальмой машине Шимона, залезли в ее прогретое солнцем нутро и тронулись, имея в поле зрения дорогу с каменистыми откосами, слегка декорированными рыжими клоками жесткой травы, бледно-желтую пустыню и конус горы Иродион в голубом еще не накалившемся небе. Плавный ход машины, ветерок в открытое окно, зелень, постепенно заполняющая обзор, разговор об археологических раскопках, ролевых играх в Сети, о литературе, а также краткие пояснения Шимона, где мы и что видим.
Потом — пауза, это когда Шимон попросил меня закрыть стекло с моей стороны и закрыл свое:
— Сейчас будем проезжать одно место. Скажем так, место неспокойное.
Над дорогой при въезде в очередную арабскую деревню высилась серая бетонная башня с застекленным верхом, откуда просматривалась (солдатами, как я понял) вся дорога через деревню. Такая же башня — на выезде из деревни.
— Камни бросают, — добавил Шимон.
Про камни я уже слышал. Точно и сильно брошенный камень пробивает лобовое стекло идущей на скорости машины и может покалечить и даже убить водителя или его пассажира. Нет, разумеется, очередь из автомата вернее и проще, а достать оружие здесь не проблема. Но пойманный с автоматом будет судим за преднамеренное убийство, смерть же от брошенного камня квалифицируется как убийство по неосторожности; а само бросание камней является не покушением на убийство, а хулиганством. Наказание более мягкое.
И потом, камни — это традиция. В истории путешествия Бунина по тогдашней Палестине Хеврон отметился камнем, пущенным в спину молоденькой Вере Николаевне. (А вот цитата уже из самого Бунина, описывающая посещение «крепости» Махпелы, «где почиют Авраам и Сара»: «прах, равно священный христианам, мусульманам и иудеям. Но мальчишки все-таки швыряют камнями в подходящих к нему поклонников немусульман, травят их собаками…»)
С закрытыми окнами мы ехали недолго, пронеслись мимо очередной «надзорной башни» и опустили стекла.
И еще минут через пятнадцать Шимон сказал:
— Впереди Хеврон.
Мы катили по улицам очередного еврейского поселения — города, по сути, — с многоэтажными корпусами домов прихотливой архитектуры, с открытым кафе, с рекламными щитами и редкими прохожими. Чисто, просторно — деревья, газончики, сухой, как бы даже прохладный горный воздух в окно. Поселение называлось Кирьят-Арба.
— Где? — спросил я, вглядываясь в горящие на горизонте строения — Вон там Хеврон?
— Уже нет. Мы в Хевроне.
Городской пейзаж за окном преобразился практически мгновенно. Справа проплывал трехэтажный дом — обычный дом с обычным, приготовленным под магазины или ресторанчики первым этажом. Только вот витрины были наглухо закрыты железными щитами, закрашенными масляной краской, и краска эта уже успела выгореть на солнце, а тротуар перед домом напоминал спекшийся, нетронутый ногами брус цемента. И не понять, обитаем этот дом или нет.
Далее мы спускались по старинной восточной улице, правую сторону которой как будто срезало ударной волной от взрыва, оставившего осыпи старого кирпича, а над ними — стены внутренних перегородок. Идеальная натура для съемок военного фильма.