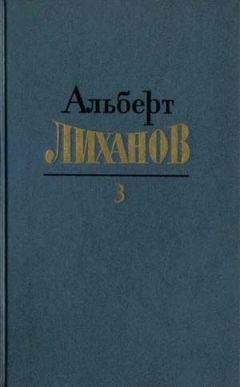Мы стояли совсем рядом, и я, может быть, первый раз с тех давних пор, когда доктор проткнул мне ухо, увидел его лицо совсем близко.
Мне показалось, что он очень похудел, даже высох. Его большой нос, на котором чудом держалось пенсне, стал острым, как у ледокола, зато серые глаза за стеклышками увеличились, и из них, словно слезы, лилась тоска.
Слезы это слезы, а тоску не видно. Это верно, ее не видно, а я видел: какая-то медленная дымка опускалась от склоненного ко мне лица и достигала меня, а я ее чувствовал и даже слышал, как можно услышать, если прислушаться повнимательнее, боль, обиду или — любовь!
Можно ли их услышать?
Можно, можно, если очень этого хотеть, если очень понимать другого и желать услышать!
Как он сказал тогда: «Не складывай крылья!» Обращался ко мне, но даже тогда я понимал, что говорит это доктор самому себе. А еще своей жене — Елене Павловне. И сыну Евгению говорит: «Не складывай крылья!»
Ребята притащили сачок с капустницей, Николай Евлампиевич запустил в него руку, вытащил бабочку, взял пальцами ее грудку и прижал. Бабочка распустила крылья. Доктор пояснил, как надо нажимать и сколько секунд удерживать, чтобы она умерла, а потом вложил в рамку из мягкого дерева и предложил мне проколоть тельце булавкой. Я это сделал. Потом, под его наблюдением, закрепил крылышки ленточками из бумаги. В края ленточки опять воткнул булавки.
— Ну, вот, — одобрил Николай Евлампиевич, — ты и сдал экзамен на энтомолога. Совсем не трудно.
Можно было улыбаться, но у меня не получилось. Все-таки доктор только придушил бабочку, а я ее убил.
Враки, скажут некоторые. Идет война, отец на фронте, каждый день может появиться почтальонка со страшной вестью, ты был в госпитале, знаешь, что такое кровь, и вдруг тебе жалко какую-то бабочку! Так не бывает!
Бывает! Потому что человек не рождается ожесточенным. Он приходит в жизнь с улыбкой. Конечно, нелегко пронести улыбку сквозь жизнь, слишком много жестокостей встречает всякий человек. Но худо, если, встретив жестокость, ты ожесточаешься сам.
Любить трудно. Особенно тех, кто сильней тебя или такой, как ты. Но кто мешает любить тех, кто слабей? Кто не ответит ударом на удар. А, может, даже, в ответ на твою несправедливую жестокость, лизнет тебе руку. Как, например, собака? А бабочка, такая беспомощная и невзрачная, как капустница?
В общем, вопрос стоит так: рождает ли жестокое время жестоких людей? Да, рождает. А жестоких детей? Нет, нет, нет!
Когда высохла моя первая и последняя капустница, я прикрепил ее к стене возле моей лагерной кровати. Стены были деревянные, темно-коричневые, с рыжиной, как всякое старое дерево, и бабочка светлела ярким пятнышком на золотисто-темном фоне. Было даже красиво.
Но — вот именно! Убивать для красоты было тошно. Как это получалось у других — сказать не берусь. Девчонки, правда, держались в стороне от ловли, хотя и не все и не всегда. Я даже слышал одно девчачье рассуждение:
— И не жалко бабочек губить?
— Но, — ответил вопрошающий другой голос, — капустницы — вредители, они капусту едят, а крапивы не жалко.
— Разве в этом дело?
— А в чем? — добила вторая.
В этом или не в этом дело, в пользе или во вреде, но я больше бабочек не ловил, потому что не мог ответить на главный вопрос: зачем?
В конце лета уехали беженки. К себе, в Киев. Когда они узнали, что настала пора возвращаться, с ними, говорила бабушка, что-то случилось. Они сразу, в один день, переменились и снова стали интеллигентными. Из серых куколок превратились в цветастых и совсем уж не таких старых дам. Без конца благодарили Николая Евлампиевича. Приглашали в гости после войны. Писали на газетных клочках свои адреса.
Они даже решили поухаживать за роялем, протерев его тряпками с мыльной водой, но доктор, вместо того чтобы порадоваться, опять расстроился.
А какой после них остался кавардак! Бабушка ходила несколько дней подряд со шваброй и выносила во двор груды хлама: и когда только успели насобирать всякой ерунды три вроде приличные женщины?
Однако бабуля все расчистила и все вымыла, нашла где-то однорукого, но ловкого фронтовика, который сломал фанерные перегородки, покрасил перила и подоконники. Бабушке уже не терпелось показать нам с мамой, как стал выглядеть докторский дом после отъезда эвакуированных.
Николай Евлампиевич по-прежнему приходил в сумерках, так что наш визит состоялся еще засветло, и я спокойно, не сторожась, побродил по нижним и верхним комнатам. Наверху почти ничего не переменилось, но внизу бабушка навела замечательную красоту: вытащила из чулана старые, выцветшие занавески, ласкавшие взгляд после стирки — нежно-зеленые, в цветочек, и вечерние солнечные лучи наполнили залу воздушной летней нежностью.
Посредине стоял прославленный рояль — я ведь так и не видал его ни разу, только слышал. И то один небольшой миг.
Черный красавец, несмотря на рассказы о дурном с ним обращении, стоял гордо и даже как-то самоуверенно. Да и неудивительно: это ведь был его дом.
Бабушка подвела нас с мамой к маленькому круглому стульчику, стоявшему перед ним, и откинула крышку. На обороте было начертано золотом какое-то иностранное слово. «Вескег», — уважительно прочитала мама, а я осторожно провел рукой по сияющебелым клавишам. Раздался нестройный звук, и я обругал себя: не лезь, если не умеешь.
Мы медленно обошли дом. Внизу были три комнаты, одна, как я помню, служила доктору медицинским кабинетом. Остальные были пустынны: там стояло по углам несколько стульев, вовсе не венских, а обыкновенных, хотя и довоенных, но ясно, что гостивших здесь — не своих.
Пол, там, где не паркет, — подкрашен, перила чисты, и только наверху — по-прежнему груды разобранного паркета и коробки с бабочками стеклом вниз.
Бабушка отправила нас домой, заметив, что подождет доктора, сдаст ему свою работу и, наверное, через часок воротится, но вернулась, не дождавшись его: доктор что-то припозднился.
Он не приходил домой две ночи — умирала Клена Павловна.
Мама сказала потом, что туберкулезные больные умирают медленно и мучительно, а Елена Павловна пролежала в туберкулезном стационаре почти дна года, и ее не отпустили домой. «Значит, сказала мама, — процесс был сложный».
Бабушка отдельно обсудила тему, как выразить свои скорбные чувства Николаю Евламииевичу, хотя ни она, ни мы с мамой ни разу жену доктора но видели. Обсуждать тут особенно было нечего: мама на работе, мне видеть покойницу ни к чему, оставалась бабушка. Странно, если бы она не пошла на похороны.
Их подробности так и остались в неизвестности. Бабушка пришла не поздно, на вопросы махала ладошкой и плакала. Чего уж тут рассказывать?
Я почему-то боялся встретить Николая Евлампиевича после смерти его жены.
Невеликое мое сердце правильно шептало: ник го не хочет, чтобы его видели разбитым, сломанным, пораженным. Но часто, будто тебе назло, происходит именно так, чего ты не желаешь.
Мама снова послала меня на рынок за молоком, но уже, конечно, не мороженым, и, наполнив бидончик, я миновал рыночные ворога, возле которых, как вечный часовой войны, опять спал, бросив на грудь свою круглую голову, герой Митя.
По ту сторону ворот дежурили тетки со сладкими петушками на палочках — и петушки эти были вожделенны, хотя и опасны, — об этом знала половина города, — потому что варили их бог знает из каких веществ и с какими красками. Однажды я отравился таким петушком, поднесенным бабушкой, и она хваталась обеими руками за голову, глядя, как меня выворачивает.
С тех пор меня привлекал только ярко-красный цвет леденцов, особенно когда целый букет петухов переполняет стеклянную банку, а тетки, будто исполняя какое-то соревновательное пение, тянут наперегонки разными голосами:
— Пе-етушки! Сладкие пе-етушки-и!
Сквозь такую банку, вернее, посмотрев мимо нее, я и увидел доктора.
Он стоял без пиджака, в той своей домашней обвисшей коричневой кофте, но в ботинках с мутными калошами, хотя на улице была жарища. Никогда прежде я не замечал, что Николай Евлампиевич может сутулиться, а теперь у него будто горб вырос. Он едва заметно раскачивался, сунув руки в карманы брюк, и пристально разглядывал спящего Митю.
Я хотел отвести глаза, повернуть назад и поскорей побежать домой. Но было стыдно. Ведь это он сказал мне: «Не складывай крылья!» А теперь ему худо, и теперь я должен сказать ему какие-то слова.
Ноги сами подвели меня к нему. Но я ничего не смог придумать, кроме участливого приветствия:
— Добрый день, Николай Евлампиевич!
Он резко повернулся и, кажется, даже не разглядев меня, спросил, не приглушая голоса:
— Разве он добрый?
Потом вынул одну руку из брюк и проговорил без всякого выражения, скороговоркой, длинную фразу — я даже и не понял, что это стихи.