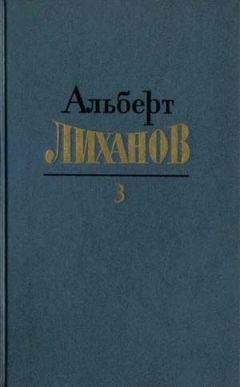Наутро дверь обнаружили распахнутой, а дом пустым. Потом прохожие увидели высокого пожилого человека, который, усмехаясь в обвисшие усы, шел прямо посередине дороги в одних кальсонах и белой нижней рубахе.
Его забрали сперва в милицию, потом в больницу, а там уж признали в нем известного доктора, специалиста по уху, горлу, носу.
Вот и вся история моего Тараканища.
Нет, не вся.
Николая Евлампиевича Россихина я помню и жалею. Время от времени он является ко мне во сне, посверкивая своим пенсне, что-то говорит, но я никак не могу расслышать — что именно. Может, спрашивает о бабочках, что с ними?
О, не беспокойтесь, доктор, они не пропали. Моя милая бабушка, ваша и наша заботница, укрыла их в пустом дровянике, в углу вашего двора, а позже заставила принять их в краеведческий музей.
Правда, вместо того чтобы порадоваться, тетка и толстоносый старикан, приезжавшие оттуда на телеге, долго ворчали, что краеведение — это значит ценности нашего края, а в коробках какие-то заморские бабочки, которых у нас не бывает, и им это не очень подходит. Но коробки все-таки забрали, и потом, зайдя в музей, я увидел самых красивых бабочек на тамошней стене.
Но может, доктор спрашивает о рояле? Его отвезли в дом культуры, какой, я не знаю, к сожалению, но ведь не должен же бесследно исчезнуть целый рояль.
Наверное, все еще стоит на сцене, конечно, сиротливый, не любимый кем-то лично и не сберегаемый чьей-то памятью и уходом. Как жаль, что вещи бессловесны и не могут прикрикнуть на людей, воззвать их к совести или хотя бы просто рассказать свою историю.
А может, доктор беспокоится о доме?
Заботами бабушки его окна заколотили работники домоуправления. Сперва все ждали, что Николай Евлампиевич поправится, и надо, чтобы дом не стоял беззащитным, пока нет хозяина. Потом стало известно, что Николая Евлампиевича больше нет, его похоронили на дальнем кладбище, потому что родственников у него не нашлось.
Старый дом не поверил этому. Он, пусть и слепой, с закрытыми глазами, старался держаться достойно, с гордостью.
Но бабушка не уставала повторять, что деревянные дома, даже самые лучшие, имеют обыкновение тосковать без людей, чувствовать себя сиротливо, и быстро разрушаются.
— Их надо топить, — говорила моя милая добрая бабушка, — полы подметать, в комнатах разговаривать. А еще лучше — смеяться и даже петь!
— Ну а музыка? — спрашивал я.
— Да, рояль — это совсем уж прекрасно и необычно, — отвечала бабушка.
Стены слегка вибрируют от звука и наполняются радостью. Даже любовью.
Она верила в любовь.
Но теряла силы и не могла больше топить в холода докторский дом.
Он оседал. Становился ниже. Деревянные подзоры, подпоясывавшие его, обломились без видимых причин, наверное, просто от ветхости. Обвисли наличники. Ступеньки перед входом покосились, а потом и проломились, хотя на них никто не ступал.
Странно, но власти не трогали этот дом. Еще не настало, наверное, время.
Я вырос, уехал учиться из нашего города в другой и однажды был очень порадован бабушкой. В своем коротком письмеце, написанном старческими дрожащими буквами, она сообщила, что неожиданно к ней пришел красивый военный, весь в орденах, и стал целовать ей руки и плакать. Он представился Евгением Николаевичем Россихиным, подтвердил, что был сначала в плену, а потом в нашем заточении, но теперь полностью оправдан и ему возвращены военное звание, да и награды, число которых сильно прибавилось, потому что он инженер и работал по секретной специальности, а не валил лес. И в лагере был совсем не под Котласом, а потом работал и вовсе в Москве. В Котласских же лагерях умер его полный и неизвестный ему тезка Евгений Николаевич, но по фамилии Россохин, какая-то и где-то произошла канцелярская путаница, вот и получил Николай Евлампиевич неверное извещение.
Бабушка писала мне, что рассказала Жене про бабочек, про рояль и про дом. Но он пожалел лишь о бабочках. Сказал, что взял бы с собой, но раз уж их выставили в музее, то пусть они там и останутся. Про рояль говорить было без толку, потому что Евгений Николаевич только-только стал свободен, с жильем вопрос еще лишь решался, но рояль бы туда все равно никак не вошел. А о доме и говорить нечего.
Сын Россихиных обошел могилки родителей и еще раз навестил бабушку. Наверное, чтобы сказать об этом.
Бабушкино письмо я положил в карман у сердца, и оно грело душу долгие-долгие времена.
Я радовался за доктора, был счастлив, что Женя жив, хотя ни разу не видел его.
Просто справедливость восторжествовала.
Хоть с большим и горьким опозданием, но она очень даже требовалась.
Пусть — только мне, если Николая Евлампиевича больше нет.
А потом пришли другие времена.
Докторский дом исчез с нашей улицы, и вместо него построили другой, каменный. Прошло не так много лет, а этот новоявленный красавец уже обветрился, выцвел, зашелушился, утратил свою первоначальную новизну.
То-то же! Не так-то это легко — занять чье-то место.
Не так-то просто занять место такого старого дома, где играла музыка, раздавался смех и горький плач, где пылал огонь в кафельных печах и теплилась надежда.
Где была любовь, встречаясь с нелюбовью.
И еще я думаю обо всех них.
О тех, кто до нас. Кто был перед нами.
Нет на белом свете моей милой бабушки, нет мамочки и отца. Нет, я думаю, даже Жени, докторова сына Евгения Николаевича, который, заехав только раз и поцеловав бабушке руки, не захотел больше приезжать к родному дому, чтобы опять и опять вспоминать, как его похоронили живым.
Нет докторова дома, рояля, коллекции чудных африканских бабочек.
И совсем другие люди ходят по той улице, где все это было. Они и представить себе не могут, что и как тут происходило до них.
И еще я думаю вот о чем все чаще и чаще.
Сколько могил и сколько кладбищ ушли в зеленый мир забвения, ушедшей и утраченной памяти? Сколько памятников сломано, срыто, обветшало и сравнялось с землей? Где наши старшие знакомые, взрослые, при которых мы были детьми?
И что будет потом, когда забудут нас, — ведь это совсем не за горами? Неужели ничего, ровная земля, сожженные фотографии, замолкнувшие рояли, пропавшие бабочки, будто отлетевшие от неблагодарных нас в свое прекрасное африканское прошлое?
Бабушка говорила мне про нелюбовь. Считала ее самым страшным.
Да уж! Нелюбви хоть отбавляй.
Но раз она есть, эта нелюбовь, существует и любовь. Существует внимание и интерес — одного человека к другому, к жизни, которая скрепляет людей чем-то невидимым. Золотой тонкой нитью.
И когда жизнь уходит, остается золотая паутина памяти. Она соединяет тех, кто до нас, с нами и нас с теми, кто после нас.
Она очень тонкая и очень хрупкая, эта паутинка, и все-таки она есть.
Не забудьте, ведь это нам сказано: любите друг друга.