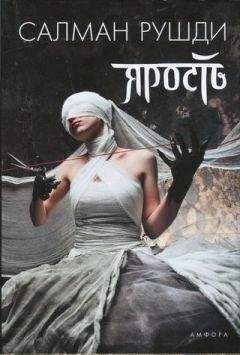Устюгов, веселый и легкий, вошел к зампотеху.
Зампотех разговаривал по телефону. Вид у него, как всегда, был озабоченный и расстроенный одновременно.
Устюгов разглядывал кабинет: стопки коробок с дефицитными вкладышами на стульях и столе, «драгоценные» прокладки на шкафу, сам шкаф с канцелярскими книгами, оставшимися от «Сельхозтехники», и домашний раскладной диванчик с замасленной и протертой обивкой. Все управление батальона знало, что если зампотех возвращался с выезда ночью, то шел спать не в общежитие, а в свой кабинет.
— Кажется, здесь все, — сказал зампотех, кладя трубку и поворачиваясь к Устюгову, — теперь с тобой. Ты покушал? Давай иди поешь и собирайся. Поедешь в пятую роту.
Устюгов растерянно и жалко улыбнулся:
— Как это? На выезд? У нас машина неисправна.
За последние две недели он совершенно отвык от мысли, что на нем выездная ремонтная бригада и он обязан ездить по ротам. Случившаяся история с письмом начисто выбила из головы все, что было связано с авторемонтом, а только что полученное известие о приезде следователя заставило думать о том, что и как он завтра скажет гостю. Среди всех этих серьезных, важных и нужных дел места для служебных обязанностей совершенно не осталось.
В растерянности Устюгов ляпнул первое, что пришло на ум. Зампотех ответил, не поднимая головы от справочника:
— Летучка остается здесь. Ты едешь один. Сейчас в пятую возвращается машина, заберет тебя. Все, иди.
Устюгов стоял, не шевелясь, и смотрел на большое желтоватое ухо зампотеха.
— Я не могу, — произнес он тихо, — я не могу ехать.
Зампотех поднял голову от книги и посмотрел на Устюгова с тем выражением, с каким обыкновенно смотрят в глубь полутемной комнаты, войдя с яркого света.
— Что? Не понял… Почему не можешь?
— Я нездоров, — сказал младший сержант и нахмурился, — у меня глаз болит. Правый. Мне нужно после обеда отпроситься в поликлинику. В город. К врачу.
— Чепуха, — сказал зампотех, и в голосе его послышалось облегчение, — на территории пятой роты есть поликлиника. А в третьем взводе есть и амбулатория. Кажется, тамошняя фельдшерица тебе знакома? Как раз она и вылечит. Поезжай.
— Товарищ майор, я серьезно, у меня уже второй день болит, все сильнее и сильнее. Мне нужно к специалисту.
Зампотех повернулся на стуле к Устюгову и сказал торопливо:
— Перестань, перестань, пожалуйста. Давай, готовься к отъезду. Часа через три выезжаете.
Устюгов вышел из штаба и пошел куда-то, не понимая, куда идет и что его ждет. Перед собой он видел лицо спящей Любы и ее большую, мягкую грудь. И холодные, крепкие яблоки, что она дала ему в дорогу. И сухую шершавую ладошку, что погладила на прощание его волосы и правую щеку. А потом всю память заволокло воспоминание о непередаваемом, опустошающем и воздушном чувстве, испытанном им впервые и с тех пор постоянно приходящем в мечты и сны. Он уже представлял, как приедет глухой ночью в деревню и сразу пойдет к Любе. Свежий снег будет повизгивать под ногами, а замерзшие и сонные собаки глухо и коротко лаять, не вылезая из будок. Он тихонько войдет в калитку и заглянет в комнату через окно, постучит и сразу вернется на крыльцо. Глубоко в доме послышатся неразличимые тихие звуки, потом на веранде скрипнет внутренняя дверь и заспанный голос Любы спросит:
— Что случилось? Кто там?
Устюгов утопит подбородок в воротник бушлата и скажет басом:
— Фельдшера срочно. Младшему сержанту Устюгову плохо.
Дальнейшее представлялось одним упоительным вихрем слепящих картин.
Устюгов поднимался по железной лестнице, ничего вокруг не замечая. Он машинально переставлял ноги по ступенькам, а сам мысленно разговаривал с Любой. В тамбуре кто-то курил. Устюгов в темноте налетел на курильщика и мечты погасли.
— Кто здесь? — спросил Устюгов. В ответ раздалось короткое всхлипывание. — Да кто здесь? — повторил Устюгов и быстро открыл дверь в казарму. Серый свет отодвинул темень и младший сержант увидел в углу тамбура Ильку. Его руки были глубоко втиснуты в карманы, плечи вздыблены, а в губах дрожала папироса.
— Опять куришь? — Устюгов вырвал из Илькиных губ папиросу, оборвал кончик мундштука и затянулся. — Мы же договаривались, что бросишь. Как твоему слову верить?
— Петька… Петь, ты уезжаешь?
— Ты откуда знаешь?
— Значит, правда. Чекмарев сказал. В столовой подошел и говорит: «Что, звереныш, припух? Уезжает твой заступничек. Попрощайся, говорит, и приготовься». Петенька, возьми меня с собой. Ну, пожалуйста. Я тебе ключи подносить буду, сапоги чистить буду. Все за тебя делать буду. Боюсь я здесь.
Волна удушливой и пьянящей злобы заволокла Устюгову мозг, сковала мысли, сдавило горло.
— Не ной! — резко оборвал он Ильку. — Никуда я не еду. Слушаешь всяких.
Устюгов вошел в казарму и хмуро огляделся. Половина солдат спала на нарах, укрываясь с головой шинелями и прижавшись друг к другу. Несколько человек курили возле буржуйки, ведя ленивый разговор о птичьем помете. Рядом Вячик надраивал голенище сапога длинной полосой, отрезанной от полы шинели. Он посмотрел на Устюгова с выражением жалости и вины. В дальнем углу казармы четверо резались в карты. Среди них был и Белоусов. Устюгов подошел и позвал его. Белоусов повернул рассерженное лицо:
— Ну чего еще? Видишь — занят.
— Поди, нужно очень.
— Щас, — Белоусов доиграл кон, кинул партизанам карты и пододвинулся к Устюгову, — что случилось?
— Санька, завтра следователь приезжает. Наверное, комдив передал мой рапорт в прокуратуру.
— Ну прям! — возразил Белоусов, нетерпеливо оглядываясь на картежников. — Что он, враг себе? Пятно на дивизию!
— Вишь как мы все привыкли — умный тот, кто тишком да молчком. А если это просто честный человек? Что уж, не бывает таких?
Белоусов пожал плечами.
— Может, и так. А может, вранье про следователя.
— Телефонограмму Вячик принимал. И потом… Меня высылают. Одного, без бригады, срочно. Мне обязательно нужно следователя увидеть. Самохин так его окрутит, так задурит, он это умеет. А я все расскажу, как было. И потом еще одно — только я знаю свидетелей. Точнее не я один, но тот, второй, который знает, он не сможет к следователю пойти. Я не очень на него рассчитываю, даже если пообещает. Вот ты бы, если меня ушлют, смог бы пойти к следователю? Видишь — молчишь.
— Что же надо делать? — спросил Белоусов.
— Я не поеду. Скажу, что заболел.
— Спятил? Приказ не выполнишь? Подсудное дело!
— Я все следователю объясню. Он поймет, он не эти. Только вот не справиться мне с ними одному — силой в машину запихнут. Может, поговоришь с мужиками — пусть помогут. Не выдайте.
В этот момент подал голос Малеха. Он уже давно прислушивался к разговору, и его маленькое, покрытое смеющимися морщинами лицо выглядело в эту минуту настороженным и угрюмым.
— Ты совсем, Петька, спятил, — сказал он и высморкался в два пальца на бетонный пол, — чего тебе дались эти Чекмарев с Бариновым? Послал рапорта и хватит. Мстительный, вот что я скажу.
— Ты чего, не понимаешь, что ли? — загорячился Устюгов. — Если следователь не найдет свидетелей да еще послушает Самохина — все пропало. Самохин напишет комдиву, что поторопился, поверил избитому солдату, а потом оказалось, что солдат подрался с гражданскими. А офицеров оклеветал, чтоб свести счеты. Представляешь, что потом с Илькой сделают?
— Да ладно болтать, — Малеха раздраженно махнул рукой, — со своим Илькой уже всех с ума свел. Эка трагедь — помяли пацана малехо. Крепче станет. И ты тоже… Как я, к примеру, за тебя заступаться стану? Драться, что ли, с комбатом? Да что я, умом слабый? Меня в колхозе стольник дожидается. А я стану здесь демонстрации устраивать. Брось ты, Петька. Вспомни, как мы с тобой эти шесть месяцев прожили, сколько водочки выпили, сколько дорог исковеркали. Выкинь дурь, поезжай к своей Любке. Тебя такая баба дожидается. Пробалдеешь с ней до отправки, в вагоне стаканчик за наше здоровье примешь, огурчиком закусишь — вот тебе и благодать! Эх, малой ты еще, жизни не знаешь. Через год ты про все здешнее и вспоминать не будешь. А сейчас можешь всю судьбу перековеркать. Я-то знаю.
Малеха залез обратно с ногами на нары и принялся тасовать колоду. Белоусов показал на него глазами и тихо сказал:
— Видишь — не пойдут мужики. А что я один? — он вздохнул и полез вслед за Малехой.
Устюгов медленно брел по проходу. Сзади вспыхивал смех Белоусова и Малехин голос громко сетовал на жестокость карт — он проиграл и его били картами по ушам. Справа, из-под шинелей, прорывался тонкий храп Новожилова. Слева жаловался на проклятый ревматизм дядя Сережа. Вячик стоял в сверкающих сапогах и светился доброй, застенчивой улыбкой. Партизаны возле буржуйки азартно спорили о том, можно ли удобрять землянику птичьим пометом. Командир второй выездной сержант Вихров поднимал в рывке двухпудовую гирю. И глядело из темного тамбура жалкое, молящее лицо Ильки.