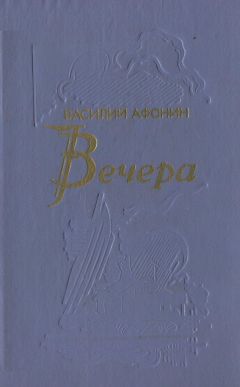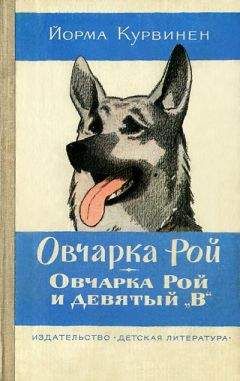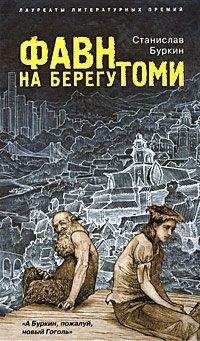Георгий завязал полы и рукава пиджака, поднял птиц, забросил ружье на левое плечо и через березняк, через листопад пошел по полям домой. Шагал тяжело, сгорбленно и все думал о косачах.
Охоту он бросил. Не сразу, выходил еще несколько раз и убивал, но труднее и труднее ему было подымать ружье. Потом оставил совсем. Одностволку почистил, смазал и повесил в горнице на стену — для воспоминаний: много было хожено с нею, много счастливых минут провел он с дробовиком по речным, озерным берегам и в тайге. Отвыкать тяжело было от охоты, ох как тяжко. Едва-едва пересилил себя. Отвык. А рыбу ловил. Ловил с началом тепла, как расцветала черемуха, и почитай до самого сентября, пока держался клев. Рыбачил только с удочкой. Ни сети, ни какие другие озерно-речные снасти не ставил. Сетью ловить — что выводок в упор стрелять, хмыкал про себя Георгий. Да и куда сразу столько рыбы: солить, продавать? И прелести той нет, что с удочкой. Забросил в заводи между лопушистых листьев кувшинки и, замерев, стоишь, ждешь, когда клюнет.
С удочкой прошел он шегарские берега в обе стороны от деревни на несколько верст множество раз, держа в памяти омута, речные повороты, плесы и заводи. Было у него по речке несколько любимых мест, где можно было даже в непогоду поймать десяток окуней или чебаков. Ловил он силушкой — тонкой проволочной петлей, привязанной к удилищу, щук, выходивших весной на отмели, в прогретую воду. Поймать щуку не так и просто…
А можно было, оставив ружье и удочку, пойти безо всего в любую сторону от деревни, побродить, подумать, послушать листопад, будь то осенью; пробежаться на узких гоночных лыжах по пробитой лыжне к бору и обратно в морозный солнечный день, когда деревья стоят в густом сверкающем куржаке; сходить в апреле по сырым, освободившимся от снега полям на дальние сенокосы, полежать там, отдыхая, на прогретом одонке — остатках невыбранного стога, глядя, как парит оттаявшая земля; а в мае посидеть на пне, на краю зазеленевшего перелеска, слушая доходивший из глубины березняка голос кукушки. Места вокруг деревни, от огородов до бора, были им изброжены, знал он наперечет все малинники и черемуховые кусты, знал, не хуже баб-ягодниц, где растет хмель, где смородина, где начинается в бору просека. Иногда он брал у конюха коня, седло и отправлялся после уроков часа на два, три куда глаза глядят. Надоедало сидеть в седле, слезал и шел по полям мимо перелесков, ведя коня в поводу, останавливаясь, отмечая приметы осени. Или запрягали коня в телегу и ехали на свой сенокос: рвать для пирогов позднюю калину, шиповник для заварки чая. В магазине чай он давно не покупал, заваривал ягодами, травами. Шиповник любил пить, мешая его с рябиной.
Георгию сильно хотелось пробраться в самое верховье Шегарки, к истоку, посмотреть, где же начинается речка. Жирновские мужики говорили, что где-то там, недалеко от начала, поселились бобры, пришедшие с Васюгана, Бакчара или какой другой речки, построили плотину, запрудив узкий в этом месте проток Шегарки. А сама река, судя по разговорам, начиналась в зыбких болотах, вправо от тропы, ведущей к озерам. Болота на большом пространстве заросли дремучим тальником — не продерешься, вот там-то, среди тальников, и начиналась Шегарка. От тропы, если напрямую, верст десять, не больше. Бывал на озерах Георгий, ходил по упомянутой тропе, видел издали тальники, а вот не пересек их, не разыскал истока. И бобров не видел, и плотины. А ведь планировал из года в год, загадывал: пройти в верховье, отметить начало, а потом, переходя от деревни к деревне, спуститься по Шегарке до самого устья, проследив весь ее путь. Какова она там, при впадении в Обь? Широка ли? Какие притоки питают ее, какие деревни стоят по берегам? Все это можно, конечно, посмотреть и по карте. Но карта картой, она висит на стене, и, лежа на диване, можно путешествовать где угодно, не только по Шегарке. А вот пройти пешком от начала до конца, а потом рассказать ребятишкам. Да и взрослым будет интересно послушать: никто из них, пожалуй, не спускался до устья.
И ружье, висевшее теперь на стене, удочки, заброшенные на крышу сарая, пешие прогулки по полям, прогулки верхом, сама мысль, что когда-нибудь все-таки пройдет он Шегарку от истока до устья, а потом обратно до деревни и расскажет обо всем, что видел и слышал по пути, — долгое время все это доставляло Георгию радость, пока не стало обыденным.
Лет пять прожил этак Георгий, как бы в забытьи, отстранясь напрочь от прежнего, открывая день за днем, год за годом что-то новое для себя в деревенской жизни. А потом постепенно новизна исчезла, все вошло в привычку, и он мало уже чем отличался от деревенских. Разве что работой. Ну, одевался, когда шел в школу. А в обычные часы: сапоги, фуфайка, поношенная шапка. Стоит возле двора, опершись на вилы, — мужик мужиком.
Все правильно, говорил себе Георгий, так оно и должно было случиться. Начнем теперь открывать дальние страны. Подойдет лето — сделаем первый выезд. А то я, чего доброго, мохом стану покрываться, заплесневею…
Однажды зимним вечером сидели они с женой в передней возле печки-голландки, картошку пекли. Захотелось вдруг печеной картошки, решили ею поужинать. Сидели в сумерках, тихонько разговаривая, свет Георгий выключил, любил посумерничать. Дверцы печки — настежь, угли Георгий отгреб кочергой подальше, на горячие колосники положил несколько картофелин средней величины, чтобы пропеклись лучше, переворачивал их длинной лучиной. За окном январь, стужа, а в избе тепло, тихо, только ходики стучат. Хорошо посидеть вот так, перед раскрытой печкой, смотреть на мерцающие уголья, подернутые тонким синим огнем. Вечер долгий, говорить особо не о чем, обо всем уже, кажется, переговорили, можно и помолчать. День закончился, работа дневная завершена.
— Лето настанет, — сказал раздумчиво Георгий, поворачивая лучиной картошку, — поедем куда-нибудь. Бери-ка ты, Вера Семеновна (иногда Георгий называл жену так, чувствуя, что это ей нравится), за два года отпуск, в начале июня, скажем, и… самолетом туда, самолетом обратно, а?
— Куда? — спросила Вера, с некоторой тревогой глядя на мужа. Признаться, она давно ожидала этого и боялась заранее. Боялась, что надоест здесь Георгию и начнет он разъезжать, проситься куда-то на лето. Уедет раз, другой, а потом и… и… не вернется совсем. Найдет себе там подругу. А что ж…
— Ну — куда, — продолжал Георгий, — этим летом — к морю. На Балтийское или лучше на Черное. На Черном наверняка теплее. Купаться будем, загорать. В районо путевки попрошу, чтоб в санаторий. А можно и без путевок. Определимся, думаю, своими силами. Я море один раз всего и видел в жизни. Мальчишкой еще занесло в Керчь, — Георгий улыбнулся. — Вот и ты посмотришь. А на следующий год — в Прибалтику. Старина там. Ленинград рядом. В Ленинграде обязательно надо побывать. По музеям походим вдоволь…
— Да ну-у, Гоша, — вытянула губы Вера. — Зачем и ехать — не знаю. Родных у нас нигде нет, к родным ездят в гости. Витька на рудниках живет, гарью дышит, какой у него отдых. Путевки могут не дать, Гош. А просто так ехать — кто нас ждет? Мне море не нужно. А тебе… чем здесь плохо? Речка под окнами. Загорай, купайся, сколько влезет. Поехать — легко сказать. А как хозяйство, огород? Сенокос подступит, кто сено поставит нам? Старики помощи ждут. Их не бросишь — родители. Да и помогали они нам. А и поедешь — намучаешься только, не рад будешь отдыху. Витька с женой в третьем годе приезжали в отпуск, жена рассказывала — измучились, пока добрались. Толкотня, народу везде полно, ругань, билетов не достать. Семь рублей у нее вытащили в поезде — вот как. Хочешь, поезжай сам, Гоша, а я… Никуда я…
«Езжай сам» она произнесла неуверенно, зная, что, если Георгий и вправду уедет, ей ни в какую не поднять одной всю летнюю работу, особенно — сенокос. Придется кого-то просить со стороны, а кто согласится, лето, день — год кормит, у каждого своих забот сверх головы. Да и скажут в глаза, а то за спиной: вот, дескать, мужа к морю проводила, а сама ходишь по деревне, кланяешься: помогите. А это хуже всего — разговоры. Никаких морей.
Георгий молчал. Вгорячах, от мысли, что дождись лета — и можно будет уехать далеко-далеко, он забыл совсем о летней работе. Уехать, оставить Веру — нехорошо как-то получится. Да ничего она одна и не сделает тут без него, захлестнется. Сенокос чего стоит: себе накоси, собери, родителям накоси, собери. Это еще при погожем лете, при доброй траве. У отца Вериного руку правую свело-скрючило, топорища захватить не может, где уж ему с литовкой-вилами управляться. От напряжения, признали, рука. Лет с пятнадцати топором машет — скрючит небось. А мать — что, на стогу лишь постоять может — старуха. Сын Витька, на которого надеялись родители, после армии пробыл с месяц дома, уехал. Служил он в городе, прихватил краем иной жизни, городской, в деревне не захотел остаться. Поехал обратно, к невесте, невеста не приняла его, отказала. Он в один город, в другой. Осел, помотавшись, на рудниках, женился, двое детей уже — не до родителей. Вера закроет почту и, прежде чем домой, к старикам заглянет — не надо ли чем помочь. А уж потом к себе. Редкий день не бывает у родных.