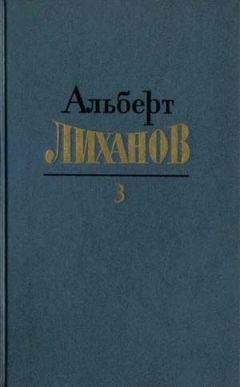Мама резко встала, сунула руку в карман платья и протянула доктору деньги. Прямо при мне. И это что-то означало. В прошлый раз она давала деньги доктору за стенкой, что-то шептала ему, благодарная, а теперь ни от благодарности, ни от шепота не осталось и следа.
— Спасибо, доктор! — сказала она обиженно и взяла меня за руку.
Я чувствовал, как нервничает мама, натягивая калоши на мои валенки, как торопливо застегивает крючки на своем пальтишке и неудобно перетягивает шарфом мой воротник.
Она нарочно отвернулась от доктора, который стоял в прихожей и, не понимая ее нервности, смотрел на маму. А я глядел ему в лицо, прямо в глаза! Ведь так сегодня хорошо было. Эти красивые бабочки наверху! И Африка, в которой, оказывается, он был!
Снова заиграл рояль, точно пробуя успокоить взрослых.
Ухогорлонос давно сунул деньги небрежным движением в карман брюк, но все остальное у него не выходило. Он пробовал прислониться боком к косяку двери, ведущей в комнату, где играла музыка, но это оказывалось неудобно, складывал калачом руки на груди, но и это не получалось, переступал с ноги на ногу, покашливал в кулак.
Как-то ему было неловко. И глаза почему-то бегали.
Мама наконец справилась — одела меня и собралась сама. Полупоклонившись хозяину частного дома, сказала, смирив гордыню и даже чуточку улыбнувшись:
— Еще раз спасибо, доктор!
Мы выкатились на крыльцо. Мы соскочили с него по ступенькам. Мы двинулись домой непонятно скорым шагом, почти побежали. И мама говорила возмущенно — не мне, а кому-то неизвестному, кого и на улице-то нет.
— Писается? — говорила она. — Да что это такое! С мокрыми ногами ходит? Как можно такое подумать! Ну, я понимаю! Ну, медицина! Все возможно! Но так говорить! Бесцеремонно! А еще доктор!
С каждым маминым восклицанием я чувствовал себя все легче. Моя защитница прекрасно делала свое дело. Она яростно снимала с меня груз, придуманный зачем-то доктором. И я вдруг подумал, малая душа: нет, он совсем не хотел обидеть. Он просто так неудачно высказался. И я на него не обижаюсь. И маме не надо обижаться. Ведь он ловил в Африке бабочек, и это многое извиняет.
Я так и сказал маме:
— Ладно, пусть. Ведь Лампович в Африке был!
Мама раскатилась колокольчиком — и каким! Он звенел до самого дома, и дома дозванивал, пока наше несложное путешествие пересказывалось во всех подробностях опять и опять, сперва для бабушки, а потом для папы, пришедшего с работы.
Одну только деталь мама то ли не заметила вовсе, то ли не обратила на нее внимания: в углу комнаты, на стенах которой висели бабочки, был небольшой столик темно-вишневого цвета, а на нем стояла огромная лампа — пузатое блестящее основание и распашистый колпак. Колпак и подставка были разрисованы китайскими фигурками — одни катили какие-то колесницы, другие просто шли или стояли, а некоторые сидели и как будто говорили между собой.
Вот ведь я почему назвал доктора Ламповичем — меня эта лампа поразила, а мама-то все толковала мне, будто это его отца так трудно звали: Ев-лампий.
Все равно же лампа! Даже в имени!
А потом я немножечко вырос, и началась война.
Ушел на фронт отец, подарив мне, прощаясь, свой значок ГТО на серебряной цепочке. По вечерам окна завешивали светонепроницаемыми шторами, чтобы вражеские самолеты не нашли нас хотя бы по щелочке света. Магазины, где прежде все свободно продавалось, закрылись на долгие годы. Появилась ценность дороже денег под названием карточки.
Все-все-все переменилось в нашей жизни. И не постепенно, а враз. Раньше люди улыбались друг другу, а теперь ходили с опущенными лицами и, даже встретив знакомого, кажется, не особенно этому радовались. Будто все думали крепкую и тяжелую думу, и дума эта одна для всех.
Разве не ясно, что я забыл про доктора?
И Африка, и бабочки, и лампа с китайцами, и сам Тараканище отодвинулись куда-то в закоулки памяти, потому что новая жизнь, как темная туча, надвинулась на нас.
Правда, мама как-то сказала мимоходом, будто ухогорлонос работает теперь в их госпитале и она часто встречает его, конечно, вежливо здоровается, и он кивает в ответ, но, сказала мама, «по-моему, не узнает».
— Ну, не узнает и не узнает, велика печаль, разве мало у него пациентов? — защитила доктора всегда сочувствующая другим бабушка.
Но однажды, было это классе во втором, и наши уже гнали немцев в ихнюю Европу, мама велела мне после уроков сходить на рынок и купить два кружка мороженого молока.
Базар уже угасал, тетки укладывали по корзинам опустевшие бутыли, ряды пустели, только там, где продавали несъестное, еще колготился, пошумливал народ, и я, к радости первой же молочницы, деловито перед тем узнав цену, сложил в авоську свою мороженую покупку.
Рынок я не любил, да и побаивался его, когда он был полон и шумен, но отчего-то решил все-таки но нему прошвырнуться. Мороженое молоко в сетке — негустой товар, чтобы кто-то на него позарился, деньги я все отдал продавщице, сорвать с меня мою драную, изъеденную молью и временем шапчонку не хватило бы духу даже у последнего пропойцы, ну, а тигровое мое пальтецо американского пошиба, полученное по ордеру мамой, было слишком бы приметным и для сбыта неудобным.
Я брел по рынку, озираясь по сторонам, выбрав не ближний к дому выход, — дети ведь потому и дети, что часто поступают вопреки теореме краткости прямой линии между двумя точками, всякой логике и вообще здравому смыслу, — так вот я неспешно брел по рынку мимо солдат с сапогами в руках и без погон — наверное, их уже выписали из здешнего госпиталя, — мимо теток с валенками и телогрейками, мимо взрослых с похоже серыми лицами, которых выстроила здесь не корысть, а нужда и тягость.
Городские рынки в войну, а впрочем, и в мир тоже — открытая язва самых немыслимых людских бедствий.
Те, кому не досталось удачи, кто потерялся посреди жизни, когда, хоть заорись, помочь некому, те, у кого украли карточки, болен ребенок, убит муж, те, кому просто отчаянно хочется есть, и эту отчаянность можно поменять на последнюю тряпку, те, кто изверился, измыкался, исстрадался, имеют шанс вольно прийти сюда, слиться с другими, такими же, и явить сообща боль, страдания, которые выравнивают всех: слабых и сильных, старых и детей, еще сопротивляющихся и совсем опустивших себя…
Я брел по рыхлому, раздавленному, разжиженному конской мочой, в кашу растолченному рыночному снегу, а приостановившись на минуту, увидел, что возле рыночных ворот, простоголовый, сидит на тележке с шарикоподшипниками вместо колес инвалид Митя, известный всему городу герой и псих, а перед ним лежит перевернутая шапка со звездочкой, почти полная медяков и бумажек, — даже мне известно, что Митя этот на особом положении, ведь и на плечах у него — золотистые, хотя теперь и грязные погоны с тремя звездочками, старлей, старший лейтенант.
Митю не трогает милиция, не лезут к нему и солдаты из военной комендатуры, ясное же дело, неловко придираться к этим погонам на глазах у рынка или тащить под руки — машин нет, а на телегу не взгромоздишь — не дастся, он сильный и буйный, к тому же разорвет телогрейку, а под ней блеск медальный, и даже орден посверкивает, — так что Митя заорет, да и кулачищем двинет — слабо не будет.
И летом, и зимой Митя гологолов, а в шапке полно денег, и время от времени, отрезвев, он зовет кого-то из немытых огарышей, и те, не смея обмануть, пересчитывают народную дань безногому орденоносному офицеру, исчезают куда-то и тащат чекушку, наполненную мутной гадостью — самогоном.
Митя сливает, булькая, содержимое чекушки в себя, хрустит огурцом, присланным в подарок и утешение безвестным доброхотом, видать, в придачу к греющей душу чекушечке, произносит несколько десятков восклицаний, вроде — «Родина-мать зовет!» или «Вперед, за Родину, за Сталина!» — при этом яростно рычит и крутится на своей тачке, летом визжа подшипниками, а зимой, но снегу, как сейчас, беззвучно, — и матерится в пять колен, вызывая, как ни странно, народное сочувствие и дополнительные пожертвования в ушанку, стоящую как бы на особицу от него.
Митя знает, что граждане ждут восстаний его духа, и раз-то в час уж непременно, а то и каждые полчаса, кричит про Родину, Сталина, матерится и крутится на своей тачке прямо посреди рыночных ворот, останавливая движение туда и оттуда. Но и все, кто не сдуру и не сослепу, уважают этот обряд и ждут, когда заслуженный инвалид свое откатает, откричит, отматерится и снова прислонится к приворотному столбу, чтобы отстоять с утра до закрытия свою всепогодную страдальческую службу.
Но в тот зимний день Митя безмятежно прихрапывал, откинув голову на столб, и, хотя глаза его были страшно полуоткрыты, было ясно, что он ничего не видит, не слышит и совершенно пренебрегает жизнью.
Постояв перед ним полминуты, я двинулся дальше.