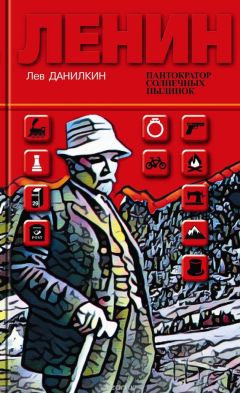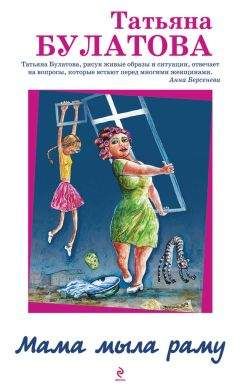— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».
Артамон Пегих головой затряс.
— Про Бога выхерить из песни! Не желам без Богу!
Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:
— А нам твово Богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.
Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене плечистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:
— Задушили! Стриганова задушили!
Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю. Стекла от шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке кричали дико и зычно про веру, про Бога. Прибежали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому, в разорванной одежде, Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.
Сцепившихся в драке разливали водой, били прикладами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину отшибли что-то внутри. Остался лежать на полу большой, замокший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удивленье застыло.
Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног его плакала жена.
Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:
— Вот эдак и тебя разутюжат.
Кочеров печально покачал головой:
— Темнота!
И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами дико, похабно ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвера не взял.
— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!
Наутро приехал из другого села фельдшер, написал удостоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели.
— Хоронить без погребения! Богохульник!
Но старик Головин в ногах валялся:
— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до Бога!
Смилостивились. Послали за полом. Старенький, совсем в селе неслышный иеромонах, вместо сбежавшего попа, был дня за два только до побоища в село прислан.
Он отпел богохульника. Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали.
Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:
— Домой поехал.
И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха.
Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».
Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела старую одежду и сказала свекру:
— Айда ли, чо ли, в хлеву убирать.
И ни одной самой мелкой работы насущной в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:
— За мужика выдадут какое способие, аль как?
Была за Семена из небесновских отбившихся взята. Грамоте сектантами обучена, считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, в глухой и темной тоске залила едкими слезами грязную, засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желанный. Опять же дети остались.
От Небесновки выборные к Софрону приходили:
— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить. Для Богу старались! Ненароком до смерти-то!
Но Софрон распалился из-за того, что его всего синяками украсили.
Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.
Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.
Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспрещается».
Внизу под этими словами Софрон рукописью подписал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели:
— Рубли по три поди за аршин при царе плочено.
Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке пришла.
Повяла баба, как муж начальником стал. Все молчит больше.
Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:
— Попалить бы их.
— Кого?
— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.
И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна, лебедкой, свободно, по-господски расселась.
Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.
Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:
— О… о… о… и… и… и… Смертынька-а-моя… О… и… м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а…
А в библиотеке Софрон перед барышней старался: заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-городскому.
— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комнатка. Полюбопытствуйте посмотреть!
И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей, дорогие флаконы с духами. Кровать с блестящими шариками под атласным господским одеялом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой, маленький, как игрушка, письменный стол на отлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый, с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.
Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:
— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел, как расставляют и что для барышнев полагается.
— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус есть, Софрон Артамоныч.
Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит так задор-ливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как овцы бестолковы, суются. И Антонина Николаевна застеснялась, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:
— Этта самый Ленин и есть?
Софрон гордо, как своего знакомого, представил:
— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Артамон голову набок, губами пожевал:
— Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом хитер. Волосьев только на голове мало.
Софрон заступился:
— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет!
— Знами, их дело — не нашинско. Волосья ни к чему. Таскать за их некому. А форму-то для его не установили еще?
— Каку форму?
— Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Россеи срамота: не одела, мол, свово-то!
Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повернулся:
— Необразованность наша! Все на старо воротит.
Антонина Николаевна по-умному брови собрала и наставительно сказала:
— Новое правительство — от рабочих и крестьян» потому и в одежде не хочет роскоши.
Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови, зорко осмотрел ее с ног до головы, губами пожевал, но ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:
— Этот ничо из себя, бравый! И шапка господска. Случаем не из жидов?
Софрон грозно прицыркнул:
— Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь евреи, такой же человек, как мы. Почитай вон у Максима Горького, как над ими при царе-то измывались.
Артамон Пегих губами пожевал:
— Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато теперь и в большевики записались. Сладкого-то мало ели. А я не для укору, у нас в Небесновке свои субботники есть. Парень бравый!
На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинетного размера карточка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спросила:
— А это кто?
Софрон смутился.
— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то я запамятовал.
Артамон Пегих успокоил:
— Должно, сродственник Ленину какой.
Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло названья книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил: