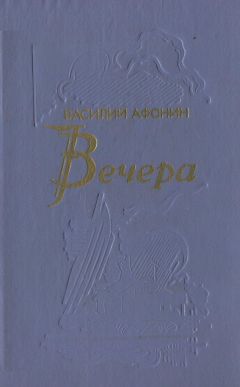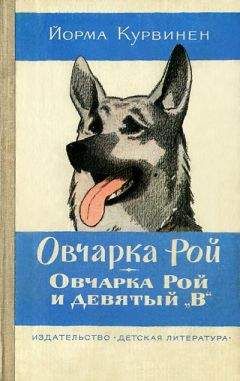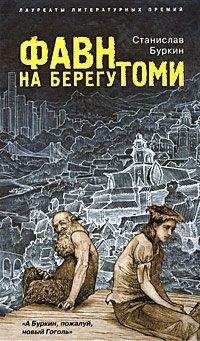С осени еще, по первопутку, на этой же вот дороге встретился ему порожняком Аким Васильевич Панкин. После обеда дали мужику быка, ехал он в лес, а Шурка возвращался груженый. Свернул Аким Васильевич в сторонку, уступая путь, остановился, здороваясь. «Ну, парень, — сказал он, одобрительно качая головой, — как и наложил ты один только, удивительно. Настоящий крестьянский воз. И дрова колкие. Хозяином растешь, видно. Матери подмога». Шурке тогда от его слов жарко стало. Если похвалил мастеровой и уважаемый человек, Аким Васильевич, значит, ты и вправду чего-то стоишь. А сегодняшний воз поболее того.
По быку видно, что воз тяжелый. Не успеть коротким зимним днем дважды обернуться парнишке в бор, так он в одном сумеет привезти чуть ли не два. Устал, правда, ну так что ж. А как же иначе. Это лишь лодыри не устают. Поработал, заморился, отдохнул. Набрался сил — иди опять работай. Тем и живет человек. Ничего. Считай, повезло тебе. Счастливо съездил. Мороз вот жжет. Ну и что, зимы без морозов не бывают. Дрова — ерунда. Подумаешь — воз дров напилить, привезти. Если бы ты за сеном поехал либо за соломой, вот где лихо. За соломой особенно. Тяжелее нет, кажется, ничего. Хотя всякая настоящая работа тяжела: дело ясное. Легко, говорят, пряники перебирать, сортируя. Легко на печи…
Ездил Шурка и за сеном, и за соломой. Не воза привозил — волокуши. Солома мелкая, навильник большой не возьмешь, скользит, ползет с воза, ветром разносит ее. Да что делать: плачь, а накладывай. Когда в скирду сметана солома, уж то хорошо, что за ветром сани поставить можно, на одном месте накладываешь. А ежели в кучах солома, под снегом, в пролитых с осени дождями, промерзших, — тут уж, как говорят бабы, хоть репку-матушку пой. Лопату бери с собой, откапывай кучи сначала, потом сноси на воз, а они одна от другой порядочно. А если надумаешь ездить между кучами, сползет солома с саней вместе с поперечинами. Вот работа — вспоминать не хочется. Попробовал Шурка в одиночку — зарекся, с матерью стал ездить, не стыдясь.
А дрова… чего не возить. Безветрие, дорога накатана. Февраль настанет, метели начнутся, поползет, струясь, поземка по полям. Едешь, а след тут же на глазах твоих заметает. Порожняком — ничего, а с возом, да еще в сумерках…
Весной, в конце марта, начале апреля, подтаявшие снега осядут, дорога подымается бугром, трудно тогда ездить по ней: сани то и дело швыряет под раскат. Пустые пусть себе скользят-катаются, а с возом — стяжка из рук не выпускаешь, бегаешь с одной стороны саней на другую. Съездил, называется. С Шуркой не случалось, но видел он не раз на этой дороге опрокинутые сани.
По весенней дороге, когда она горбом поднялась, высокий воз — беда, поменьше накладывай да пошире. А кряжи пили вровень с санями, ну, четверти на две подлиннее. Чем длиннее кряжи, тем чаще забрасывает сани.
Раскаты. Метели. «Запрягаешь в лес, — втолковывал Шурке отец, бывало, — проверь все до последней мелочи. Не надейся на авось. Сам себя подведешь, не дядю чужого. Ну-ка, подумай, что мы с тобой не сделали на этот раз?»
Когда пришло время Шурке одному в лес ехать, волновался он сильно: сумеет ли напилить — привезти. Уж он собирался-собирался. И в бору, прежде чем начать что-то, продумывал от начала до конца, как с отцом они делали это. Второй раз съездил, третий. А потом привык. Лишь бы получить быка, а на погоду внимания не обращаешь уже. Будешь морозов бояться или метелей, замерзнешь и в своей избе. Рассказывали же по деревне, смеясь, как ленивая молодуха на печи замерзла, ждала, когда погода наладится. Дураку ясно, что за дровами удобнее в марте ездить, хоть и раскаты, и дорога, того и гляди, рухнет. А ты сумей в декабре привезти, в январе: снегу уже всюду по пояс, и морозы трещат, рта не раскрыть. Мокрый палец приложил к обуху — он примерз. Ресницы льдом схватывает. Хорошо в Африке. Там, читал Шурка, зим совсем не бывает…
Тепло, набранное в работе, постепенно уходило, и Шурка стал мерзнуть. Мерзли ноги, начиная от незащищенных короткими голяшками пимов и выше, где к телу прилегали мерзлые, а потом просто мокрые штаны. Шурка запахивался теснее, прикрывая колени полами шубы, но колени занемели уже, и, чтобы отогреть их, надо было входить в тепло, сбросив хрустевшие при каждом шаге штаны. Отвлекаясь, Шурка старался думать о постороннем, не связанном с дорогой и дровами, возвращаясь, однако, помимо своей воли к ним, и опять уходил мыслями далеко, забывая, что он в пути. Голова опущена, согнутые в локтях руки прижаты к бокам.
Шурка думал о том, что вот удивительное дело, есть год, в нем триста шестьдесят пять — триста шестьдесят шесть дней, делится год на четыре части, части эти называются временами года, каждое время хорошо само по себе, приносит свои радости, но почему-то всегда получается так, что зимой ты ждешь весну, весной — лето, летом — осень, осенью — опять же зиму. Недавно совсем, кажется, была осень, закончились сухие погожие деньки, и начались дожди, а с ними — грязь непролазная. Всюду мокро, уныло, нет охоты выходить на улицу; сидишь у окна или на печи, ждешь заморозков, первого снега. Снег выпадает неожиданно, бывает, на сырую землю, валит ночь и день, преображая все окрест. Выскакиваешь из избы под снег, запрокинув лицо, раскрытым ртом ловишь пушистые хлопья, визжишь, кричишь от охватившего тебя восторга, швыряешься снежками, бегаешь по ограде, переулкам, оставляя следы. Снег уже не растает, он скрыл мягким слоем расквашенные дороги, пустые поля и сжатые хлебные полосы, снег обрядил деревья, лежит на крышах, стогах, жердинах городьбы — бело во все концы. Скорее делать лыжи, ремонтировать санки. Глядишь, через неделю над речными берегами вырастут сугробы, превращаясь в снежные горы. Как здорово скатиться с такой горы, проложить первую лыжню; чем круче берег, тем шибче захватывает дух, ветер заносит наушники шапки к затылку, на глазах слезы, а ты летишь, слегка пригнувшись, чувствуя, как под пальтишком колотится сердце…
Ждал Шурка зиму ненастным октябрем, пришла своим чередом зима, наигрался он в снежки, накатался с гор на санках и лыжах, сделанных еще отцом, бегал на них в ближайшие перелески, высматривал заячьи следы. Ноябрь минул, декабрь, вот уже января половина, наскучила зима, намерзся Шурка, выезжая в лес, в поля, шагая всякую неделю во Вдовино и обратно. Скорее бы весна. Все времена года ему по душе, каждое время любит он единственной своей любовью, но весну выделяет особо. Самая пора его. Лето, говорят, красное. А весна — она, верно, из всех цветов соткана. В первых днях марта еще и не пахнет весной, еще метели могут кружить, сшибаться на открытых местах, а вот в конце месяца… Снега потемнеют, осядут. По ночам морозцы сковывают верхний снежный слой — наст образуется, а днем, в полдень, теплынь. Глядь, по берегам ручьев верба расцвела, распушилась желтыми барашками. Ручьи шумят водой. Проталины первые. Ледоход на Шегарке — событие в жизни ребятишек. Жердинку сухую тонкую — в руки, вскочил на льдину, и понесло тебя, швыряя от берега к берегу, до очередного затора — берегись! Расшибет льдину!..
Вода. Вода. Половодье кругом. Над деревней косяки гусей проходят дальше на север, кричат волнующе. Утки прилетели, садятся на полосах, в лывы. А неделей раньше — скворцы (скворечники у тебя давно готовы). Журавлей слышали поутру. В голых березняках дрозды трещат, облюбовывая место для гнездований. Сороки уже свили гнезда. Если сапоги крепкие, бери топор, отправляйся за огороды к старым березам — пить сок, не упускай времени. Домой принеси, братьям и матери. Весна. Весенние праздники. Мать обязательно справит что-либо из одежды. Ног под собой не чуя, вылетишь в новой рубахе на подсохшую поляну играть в лапту, а там приятели-ровесники орут, носятся с мячом, скатанным из бычьей шерсти. Один картузом хвалится, на этом штаны с карманами. Третий во всем старом вышел, но его подстригли к празднику, он тоже радости полон.
Весна. Вода. Едва заметна зеленая травка на пригорках. Прогретые одонки сена в полях. Синь, звень и на земле, и на небе. Тянет куда-то из дому — шел бы и шел. Думается обо всем сразу…
С каждым днем теплее, зазеленел лес, прокатились, громыхая, из конца в конец по небу весенние грозы с косыми сверкающими дождями, зацвела черемуха, в огородах посадили картошку, скоро каникулы. Черемуха расцвела — начала клевать рыба. Делай удочку или снимай старую с крыши сарая, ходи по берегам, рыбачь, подкармливай семью, пока сенокос не начался. «Косить выехали», — скажет мать. Через недельку бери быка и — в звено, копны возить. Июнь, июль, август занят на колхозной работе: сенокос. Если даже и дождливый день, все равно поезжай на табор, бригадир посидеть не даст, найдет заделье. Ягода поспевает в лесу. Кислица — ранее других, а затем малина, смородина, костяника, черемуха. Как свободная минута — в кусты. Целыми днями сидишь на бычьей спине, штаны протираешь. В полдень — на табор, повариха там обед уже сварила. Табор на берегу Шегарки. Быки, искусанные паутами, рысью бегут к воде пить. Иной в воду заберется, одна голова видна. Напьются и — пастись по берегу. А ребятишки игру затеют после обеда, пока взрослые отдыхают.