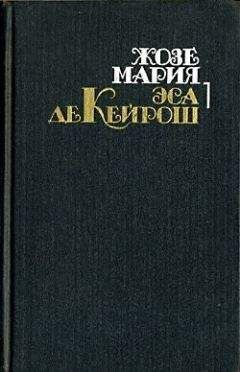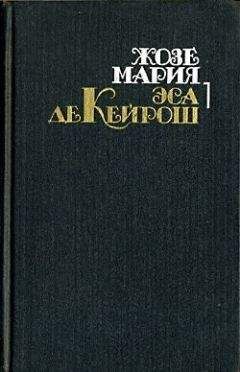А если Вам надоела древность и Вы предпочитаете вернуться в нашу философическую эпоху, то в двух великих религиях Востока и Запада, в католичестве и буддизме, вы найдете еще более ясное подтверждение того, что религия – это действительно не что иное, как совокупность обрядов. Богословие и мораль стоят над ними как нечто внешнее, как интеллектуальная игра, излишество и преходящая роскошь; это цветы, которыми украсила алтарь наша фантазия или наша жажда добродетели. Католицизм (и никто не знает этого лучше вас) сводится ныне к краткому перечню практических правил; а ведь нет другого вероучения, в пределах которого разум воздвиг бы столь обширное и величественное здание богословских и нравственных концепций! Но эти концепции – дело ученых и мистиков. По существу, они так и остались достоянием монастырей, где были драгоценным материалом для диалектики и поэзии. Толпе же они неизвестны и никогда не управляли умами и поступками. Сведенные в катехизисы и прописи, эти основные правила заучиваются народом; но вы никогда не убедите народ, что можно верить в бота, служить богу и быть угодным богу лишь тем, что исполняешь десять заповедей. Народ даже убежден, что эти десять заповедей, деяния милосердия и другие моральные предписания катехизиса – не что иное, как стишки, которые надо прошептать губами, и тогда в них проявится чудесная сила: они привлекут благоволение и милость бога. Чтобы служить богу (то есть угождать богу), самое главное – это слушать мессу, перебирать четки, поститься, причащаться, давать обеты, дарить облачения святым и т. д. Только этими обрядами, а вовсе не выполнением нравственного закона, можно расположить к себе бога и получить от него бесценные дары: здоровье, счастье, богатство, мир. Даже рай и ад – эти внеземные формы поощрения и наказания – никогда, по убеждению народа, не даются за исполнение или за нарушение закона. Вероятно, именно поэтому, и вполне резонно, католицизм считает награду и наказание не актом справедливости, но актом милости бога. А милость бога, по представлению простых людей, можно заслужить не безупречной жизнью, а постоянным и неуклонным исполнением обрядов: мессой, постом, покаянием, причащением, чтением молитв по четкам, жертвой, обетом. Иными словами, как в католической вере миньотца, так и в религии арийца, как в Карразеде-де-Ансиайнс, так и в Семиречье вся религия сводится к умилостивлению бота посредством угодных ему благочестивых обрядов. Нет в этом ни богословия, ни морали. Есть только действие существа бесконечно слабого, которое хочет расположить к себе существо бесконечно сильное. И если вы, очищая католицизм от шаманства, устраните священника, епитрахиль, облатку, флакончик со святой водой, то есть ритуал и литургию, то католик сейчас же отвернется от религии, которая не имеет видимой глазу церкви и не дает простых и ощутимых способов вступить в общение с богом, чтобы получить от него сверхчувственные блага для души и чувственные блага для тела. Католицизм в тот же миг рухнет, и миллионы людей потеряют своего бога. Церковь и бог – это все равно, что сосуд и содержащееся в нем ароматическое вещество: церковь распалась – бог испарился.
Если бы у нас было время отправиться в Китай или на Цейлон, мы бы столкнулись с тем же явлением у буддистов. Буддизм выработал самую возвышенную метафизику и самую благородную мораль на свете. Но куда бы ни проникал буддизм – в орды Непала или в китайский мандаринат, – для толпы он всегда состоял из обрядов, церемоний, благочестивых поступков. Самый известный пример – молитвенная мельница. Вы никогда не видели эту мельницу? Увы, она очень похожа на кофейную. Во всех буддийских странах вы увидите ее на улицах городов и на перекрестках дорог. Набожный человек, проходя мимо, должен два раза крутнуть; ручку мельницы, внутри которой лежат написанные на бумаге молитвы; молитвы зашелеетят, и верующий тем самым войдет в общение с Буддой, который за этот акт трансцендентной учтивости «будет ему благодарен и умножит его блага».
Ни католичество, ни буддизм не приходят из-за этого в упадок. Наоборот! Они пребывают в нормальном и естественном для религии состоянии. Чем материальней религия, тем она божественней. Не пугайтесь! Я хочу сказать, что чем больше религия освобождается от умозрительных наслоений богословия, морали, гуманизма и т. д., отбрасывая их в присущие им области философии, этики и поэзии, тем непосредственней создает прямое и простое единение людей с их богом. Это единение достигается без всякого труда: достаточно встать па колени и пробормотать «Отче наш», и в награду абсолютный небесный человек идет навстречу преходящему земному человеку. Вот эта-то встреча и есть самое божественное в религии; чем она материальней, тем божественней.
Но вы скажете (и вы действительно это говорите): «Сделаем общение с богом чисто духовным. Не надо никакого литургического спектакля. Пусть дух человека непосредственно говорит с духом бога». Но для этого нужно, чтобы наступило тысячелетнее царство Мессии и чтобы любой землекоп стал философом и мыслителем. Когда наступит это кошмарное царство и на козлах каждой пролетки будет сидеть Мальбранш.[163] Вам придется создать для новой, совершенной породы мужчин новую, совершенную породу женщин, физиологически отличную от той, которая ныне украшает землю. Ибо пока женщина будет оставаться такой, какую в минуту высокого вдохновения создал Иегова из Адамова ребра, то рядом с ней, ради ее убожества, навсегда придется оставить священника, алтарь и статую богоматери.
Мистическое общение человека с богом, к которому вы стремитесь, навеки останется привилегией избранников духа, привилегией немногих. Для толпы же – будь то толпа языческая, христианская, магометанская, дикая или культурная – религия будет всегда иметь одну цель: выпросить у бога милость и отвести его гнев. И материальным средством достижения этой цели всегда будут храмы, священники, алтари, богослужения, облачения, образа. Спросите среднего человека – не философа, не моралиста, не мистика, а человека из толпы, – что значит верить в бога. Англичанин скажет: «Верить в бога – значит, опрятно одевшись, пойти к воскресной службе и петь гимны». Индус скажет: «Верить в бога – значит совершать каждый день «poojak»[164] и приносить дань Махадеве[165]». Африканец скажет: «Верить в бога – значит приносить Мулунгу положенную порцию муки и мяса». Миньотец скажет: «Верить в бога – значит слушать мессу, перебирать четки, поститься по пятницам, причащаться на пасхе». И все они будут вполне правы, потому что цель их, как людей религиозных, – общение с богом, и все, о чем они говорят, суть способы войти в общение с богом, соответствующие уровню их цивилизации и форме принятых в их обществах литургий. Конечно, для вас и для других избранных религия представляет собой нечто совсем другое – как она была иной для Сократа в Афинах и для Сенеки в Риме. Но человеческие массы не состоят из Сократов и Сенек, к счастью для масс и для тех, кто ими управляет, включая и вас, ибо вы тоже хотите их учить!
Но вы все-таки не унывайте, дорогой друг! Даже у самых простых душ встречаются формы веры в божество, вполне свободные от литургических и обрядовых ритуалов. Один такой акт веры, восхитительно простой и чистый, я наблюдал сам. Это было на берегах Замбези. Негритянский военачальник по имени Лубенга накануне объявления войны соседнему вождю пожелал войти в сношение со своим богом, своим Мулунгу, который был, как полагается, его обоготворенным предком. Однако весть или просьба, которую вождь желал сообщить своему божеству, была слишком важной и тайной, чтобы передавать ее через колдунов с их церемониями. Что же делает Лубенга? Он зовет раба, обстоятельно и медленно шепнет ему на ухо свое послание, проверяет, все ли раб понял, все ли запомнил, затем хватает топор, отрубает рабу голову и спокойно возглашает: «Ступай!» Душа раба пошла прямиком на небо, к Мулунгу, наподобие запечатанного письма с маркой; но несколько минут спустя вождь хлопает себя ладонью до лбу, поспешно зовет другого раба, наскоро шепчет ему на ухо еще несколько слов, отсекает ему топором голову от туловища и кричит: «Иди!»
Он забыл какую-то подробность в своем послании к Мулунгу… Второй раб был постскриптумом!
Этот простой способ общения с богом, несомненно, порадует ваше сердце.
Ваш друг
Фрадике.Рамальо Ортигану.
Париж, апрель.
Дорогой Рамальо!
В субботу вечером, проходя по улице Камбон, я вдруг увидел в едущем мимо фиакре нашего Эдуардо; он высовывается через дверцу и кричит: «Рамальо будет здесь сегодня вечером! Проездом в Голландию! В десять, «Кафе де ла Пэ».
Я приятно взволнован и в половине десятого, несмотря на мое законное отвращение к «Кафе де ла Пэ», куда стекается вся накипь международного снобизма, я располагаюсь там с кружкой пива, в ожидании, что сию минуту среди безличной и праздной толпы бульварных фланеров возникнет твой великолепный силуэт. В десять, спеша изо всех сил, с фиакра соскакивает живчик Кармонд: уехал с веселого ужина pour voir ce grand Ortigan![166] Начинается сиденье вдвоем над двумя кружками пива. Нет нашего Рамальо, не видно его веселой физиономии! В одиннадцать появляется запыхавшийся Эдуардо Что ж Рамальо? Так и не явился? Сиденье втроем, нетерпеливое ожидание втроем, над тремя кружками пива. И так до тех нор, пока часы не прозвонили, что день кончается.