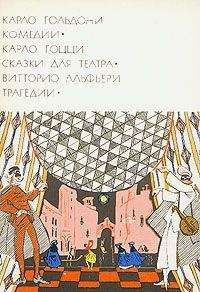– Есть хоть небольшое общество на этих водах?
– Право, я сам не знаю… Дирекция делает массу объявлений. Публикуют, что бальная зала окончена… что есть библиотека, все журналы… одним словом, воды… Вас это огорчает? Хотите, я посоветую вашему мужу отправиться на…
– Совсем нет… я хотела знать, как там насчет туалетов.
На другой день Марта получила отпуск, Шарль укладывал свои книги в большой чемодан.
– А приказание доктора? – спросила Марта.
– Ба, – отвечал Шарль, – это я только, чтобы помешать себе работать. Я с собой везу одну лень, уверяю тебя.
К концу недели они устроились около Сен-Совёра. Шарль радовался. Он нашел в четверти часах от деревни маленький замок, кирпичи которого, окруженные рамами из белого камня, весело глядели сквозь деревья. Это был единственный флигель, уцелевший от огромного замка Людовива XIII. В XVIII столетии первый этаж покрыли крышей à la Мансарт, с тремя круглыми окошечками Людовика XV и колоколом, прикрытым китайской шляпой; с двух сторон еще остались две башни из четырех; обвитые и скрытые плющом и фруктовыми деревьями выходя из оврага, они поднимали в небу свои остроконечные крыши.
В замке, перестроенном и переделанном для буржуазного жилища, где три века оставили тут и там свои следы и как бы воспоминания, привитые одни к другим; столовая была обшита деревом, над дверями и окнами, в раковинах, высеченных из изящного камня, были написаны веселыми легкими и живыми красками, где плесень местами заменяла изображение тумана, сцены из басен Лафонтена. Над тяжелым, богатым камином Людовика XIV, выложенном прекрасной медью, где сплетался двойной герб прежнего владельца, висела большая картина в деревянной раме: она изображала трофеи охоты на дичь, которые стерегли гончие собаки песочного цвета, так хорошо изображаемые кистью Удри. На каминной подставке две большие из белого фарфора вазы портили бы впечатление без Марты. Но Марта, набрав охапку тростника в заброшенном пруду парка, тотчас же их украсила, придав всей комнате тот праздничный вид, который придают жилищу только женщины и букеты цветов. Затем шел большой зал, обставленный старыми креслами, с подушками из перьев, с белым деревом, на котором золото совершенно исчезло под белилами и не блестело более, виднеясь только еще на рамах четырех пано, где скульптор изобразил четыре времени года: весна рассыпала ленты, грабли, серп, посох, лейку и корзины с цветами; лето бросало гирлянды роз, шиповника, соломенную шляпу, корзинку с фруктами и флейту; осень сыпала чаши, охотничьи рога, гирлянды персиков, груш и корзины с виноградом; зима роняла факелы, шутовской колпак, мандолину, тамбурин, маску, треугольник и лавровый венок.
В кухне был один из тех огромнейших каминов, к которому в осенние вечера приносят свой стул и садятся, грея свои руки и вытягивая ноги к пылающему хворосту. Восходящее солнце освещало комнаты первого этажа и наполняло их веселием на целый день. Но ни одна комната во всем замке не нравилась так его двум гостям, как круглое зало одной из башен. Это была старинная часовня, которую еще можно было узнать по свинцовой оправе и маленьким окошечкам. Южное окно было заколочено. В два другие падал свет сверху. Отличная двойная дверь, крытая коричневой парчой с золотыми гвоздиками, оберегала вход; видно было, что часовня сделалась мастерскою живописи.
При выходе из стеклянной двери залы и других комнат в этом же этаже, был перекинут через ров каменный мост, железные перила которого скрывались за диким виноградом. В конце моста открывалась аллея из каштанов, старых каштанов с обстриженными верхушками, с новыми отпрысками, подымающимися прямо в небо; несколько ниже взор находил вдали полосу лугов, а далее – Сену. Направо и налево от каштановой аллеи шел парк, маленький парк, в котором Шарль и Марта тщетно старались в первый день заблудиться. Это были остатки французского парка, вырубленного в 1793 году, но потом быстро подросшего. С каждой стороны аллей свешивалась целой завесой старая сирень, сквозь которую свет играл на дорожке меняясь смотря по времени, то перебегая с веток в листву, скользя по гладким темным и светлым листьям, то образуя между двумя стенами зелени – полосы, одну из тени, другую из солнца, по которой временами проносились тени от летающих в небе птиц. При малейшем ветерке эта занавесь колебалась и при легком дуновении листья склонялись с обеих сторон аллеи и в волнующейся чаще проносилась легкая дрожь и уносилась замирая. Тут и там над сиренью дикая яблоня протягивала свои ветви. По бокам аллей ползучие растения, сплетенные и перемешавшиеся между собою, образовывали маленькую беседку для упавших пожелтевших листьев. На перекрестке был маленький уголок, где Марта и Шарль любили сидеть. Трава была помята. Со всех сторон рос вереск. Маленькие елочки подымали свои пирамидальные верхушки, посеребренные светом. Земля была горячая, целый день залитая солнцем, целый день оживляемая трескотней кузнечиков. В открытом небе виднелась ель с лиловым стволом, с изумрудной верхушкой, придающей небу лазурный цвет Италии.
С этого уголка начинались развалины. Аллеи, поросшие травой и кустами, сделались уже тропинками, посреди которых на паутинах начались сухие листья. Остатки лабиринта обратились в простую рощицу с заросшими тропинками. Фонтан из обожженной глины, с тремя тритонами, несущими двух обнявшихся амуров, печально струился в тени засохших ветвей, изломанных, забытых, уединенных. Время немного пощадило в конце парка восхитительное безумие XVIII века, ребячество самого забавного рококо: игру в гусек, настоящая игру в натуральную величину, устроенную между деревьями. Все станции, где рупор посылал далее игроков, были сделаны из окрашенного камня и гипса. Шарль и Марта нашли их одну за другой в маленькой рощице: это была тюрьма, затем гостиница, затем колодцы, и все остальное. Однажды возвращаясь со своих открытий, они заметили у края аллей выцветшую ракету, ручка которой сохранила остаток красной кожи, скелет мертвой игрушки, единственное воспоминание прошлого.
В гамаке, повешенном между двумя каштанами посреди аллеи, ведущей от крыльца к Сене, полулежала Марта, одной ногой касаясь земли, другою покачивая в воздухе. Она слушала с рассеянным и скучающим видом господина, говорившего с Шарлем на зеленой скамейке. Это был молодой человек с четырехугольным лбом, спутанными волосами, широким лицом, львиными глазами, толстыми руками, которые упирались в коленки самым неуклюжим и буржуазным образом.
Последние лучи солнца играли на тысяче новых отпрысков, выросших на подрезанных каштанах и на ветвях нежно-зеленого цвета, на этих воздушных клетках, которые солнце покидало как бы с сожалением, опускаясь к горизонту, и окрашивая их всеми своими переливами; во всех концах слышалось веселое чириканье птиц, поющих на прощанье.
– Это совершенно верно, сударыня, – тут нет ни одной кошки, совершенно верно… Дирекция вод все сделала, чтобы привлечь публику, даже объявила, что публика уже есть; и несмотря ни на что, никто сюда не едет, исключая этой голландской семьи, да четырех или пяти женщин из Труа, приезжающих сюда в хорошую погоду… Но ведь собственно говоря ваш муж приехал сюда, чтобы лечиться и самый несчастный здесь – это я, доктор.
– Да, я понимаю, сказала Марта, – вы рассчитывали…
– Я рассчитывал, сударыня, на большое число больных… Я рассчитывал на обширное поле наблюдения и исследования. Я надеялся найти здесь орудий для борьбы с болезнью века.
– В самом деле, доктор, – сказал Шарль, – с болезнью века.
– О, я отлично знаю, что медицина, взятая в совокупности своих доктрин, рассматривает ее как индивидуальные случаи, которые надо лечить только тогда, когда организм глубоко поражен… Я, напротив, смотрю на нее, как на болезнь органическую, принадлежащую по своему характеру общности и чрезмерного развития, племени девятнадцатого века. Я считаю ее болезнью всех жителей столиц, в различных степенях развития, но поражающей более или менее здоровье нарождающихся поколений, потому что только сильные порождают сильных… Посмотрите, все стремится к централизации, к образованию маленьких и больших столиц. Современная жизнь стремится от чистого воздуха, от земледельческой жизни к сосредоточенной, сидячей жизни, к жизни газа древесного угля, к жизни газа ламп, к жизни, вскормленной на фальсифицированной, обманчивой, подделанной пище, к полному извращению нормальных условий физического бытия… Да вот, вы курите… еще одно видоизменение, противоречащее общей экономии жизненности, благодаря излишеству опиума… И все же, что касается табака, я наверно не знаю; я вижу ослабление мозга попусту; но мне трудно поверить, чтобы злоупотребление, сделавшееся привычкой, не было законом, ниспосланным провиденьем, каким-нибудь предохранительным средством, причин и действия которого мы не знаем… Наконец, ведь мы должны найти какое-нибудь лекарство, какое-нибудь противоядие от тысячи изменений нормы современной жизни, от тысячи её отправлений. Наука должна быть готова к борьбе с этой новой болезнью. Надо найти, должно существовать что-нибудь, что уравновешивало бы это извращение природных законов гигиены и состояния человеческого здоровья.