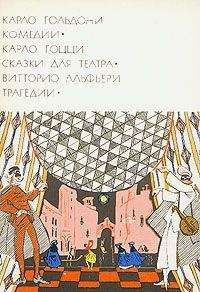– Но я сказал это, моя милая, не для того… Только, так как тут настоящая яма, я боюсь, повторяю, чтобы ты не соскучилась… и я упрекаю себя…
– Надо сперва тебе вылечиться, неправда ли? – сказала Марта сухим тоном.
Через несколько минут Шарль произнес:
– Ужасная погода сегодня…
– Совсем нет, мой друг, я не нахожу… Ты преувеличиваешь.
– Ты не находишь, что погода неприятная, раздражающая?
– Ты страдаешь мой друг, это все твои нервы…
С этого дня Марта удвоила свой скучающий, угнетенный вид, раздражающий особенно своим нежным тоном, своим упорным терпением, своей кажущейся ласковостью, своей аффектацией снисходительности и прощения к состоянию болезни Шарля. Это было противоречие, безропотное как скорбь, спокойно относившееся к мнениям Шарля, как смерть равнодушная к пытке; ангельское противоречие, так сказать, по поводу всего, по поводу вкуса вод в Сен-Совёре, по поводу оттенка цветка, качества говядины, высоты дерева, по поводу всего, что они видели, ели, пили, делали, думали. Наконец, Марта, истощив предлоги, дошла до противоречия в грамматике, до споров об орфографии и она мучила Шарля, предлагая биться об заклад по поводу трудностей причастий!.. Для человека больного болезнью Шарля трудно было найти более успешную пытку.
– Марта, я взял для тебя на прокат пианино из Труа… Завтра утром его привезут, – сказал Шарль однажды вечером.
– Пьянино?.. Но, мой друг… Я отлично обходилась без него.
– Именно для того, чтобы ты не обходилась без него долее.
Разговор прекратился. Марта произнесла:
– Мы не видим более доктора… между тем… Раньше всегда он к завтраку, или обеду…
– Ты видишь, милая, что он приходил не для этого, потому теперь его нет.
– Ты можешь находить его интересным… но для женщины, согласись… он говорит только о медицине… и об ужасных вещах…
– Доктор, говорящий о медицине… ты права, моя милая, – сказал Шарль.
Марта углубилась в свое кресло, и сжала руки.
– Послушай, моя милая, – сказал Шарль, – у тебя на лице написана такая скука, что… я к твоим услугам… Когда ты захочешь, тотчас же мы уедем в Париж.
– Нет, мой друг… Мы не уедем. Я не хочу уезжать. Я останусь здесь на все время, сколько будет нужно… Твое здоровье прежде всего, мой друг… Это долг для меня… Ах, я забыла тебе сказать, я получила письмо от матери, она велит мне передать тебе тысячу поклонов… Бедная мать! Никогда мы так надолго не расставались!..
– Ты также очень хорошо знаешь, что я предоставил ей полную свободу приехать сюда… Оказалось так, что это путешествие не входило в её планы…
– Это потому что она боялась…
И Марта сделала вид, что колеблется.
– Ах, прошу тебя, я люблю, когда говорят прямо… Она боялась, чего?
– Просто-напросто стеснить тебя, мой друг… Ты сейчас принимаешь такой тон… Я теперь не смею ничего сказать… Ты перетолковываешь каждое слово… Ты верно плохо спал эту ночь… Ты не владеешь собой, дорогой мой… С тех пор как ты болен, твой характер…
– Потому что я страдаю, Марта.
И Шарль, вообразив на минуту, что он во всем виноват, поднялся, чтобы спросить прощения в поцелуе своей жены.
– Ах, я отлично знаю… Это сильнее тебя… К счастью, дорогой мой, я начинаю с этим свыкаться.
Это слово остановило Шарля, который снова взял книгу. Марта сделала тоже самое.
– Угадай… – сказал Марта, прерывая чтение внизу страницы, – угадай, в котором часу мы легли вчера спать?
– Не знаю… В девять часов?
– Нет… В половину девятого.
– О!
– Я посмотрела, – и она принялась за чтение. Через минуту она возобновила разговор:
– Тебе не надоела эта книга? – произнесла она, оборачиваясь в Шарлю.
– Она очень интересна, – сказал Шарль.
– А! – И она снова принялась за книгу; потом, оставив ее:
– Какой сегодня день?
– Сегодня?.. Суббота.
– Нет, какое число.
– Четырнадцатое сентября.
– Мы выехали из Парижа… Это составляет ровно двадцать один день… – и после некоторого молчания, Марта произнесла с видом безнадежной покорности:
– Время еще движется.
Шарль взялся за ручку двери.
– Куда ты идешь, мой друг?
– Я хочу выкурить сигару на воздухе.
Наконец, они нашли развлечение: это была Сена. В полдень они садились в одну из тех плоских лодок, которые Жюль Дюпре изображает на своих пейзажах под тенью ольховых деревьев Пикардии; Марта садилась наперед, склонившись над водой в большой соломенной шляпе, которую она надвигала на глаза; Шарль, стоя сзади, упирался на длинный шест, и делая усилия толкал лодку, плавно идущую по воде.
Так они проводили долгие часы между деревьями, тень от которых издали, сосредоточиваясь около берега, открывала их взгляду широкую сияющую аллею, в которой отражалось синее небо. Вокруг них речные волны несли по течению светящуюся от солнца рябь, водоросли и рыбок. В этот час Сена ослепительно сияла; глаза щурились, взгляд терялся в этом пожаре, исполосованном светящимися бороздами от барки, и видел только тут и там молнии и отблески вдоль стволов ив и свай, огненную полосу, обозначавшую край челнока, и тростники, прямо растущие в воде. Они спускались, подымались вверх и вниз по течению, избегая песчаных мелей, в ямах которых стояла теплая, спящая вода; они проезжали сквозь волнующийся и сгибавшийся к воде тростник, открывая в чаще водяных растений таинственные проходы и впадины, где вода была синего цвета, как синька. Они проезжали по водорослям, которые оживали в воде, под тенью деревьев влажных, свежих, купающихся в реке; мимо старых стволов деревьев, побелевших и полированных от течения, по окаменевшим растениям на половину затопленным, которые, когда лодка проходила, подымались и выплывали из воды как лебеди. Потом вдруг русло реки исчезало из их глаз: небо распростиралось на зыбкой воде точно песок на низменных болотах и лодка казалось двигалась по синему небу.
– Повернись, – говорил Шарль, и показывал Марте пройденную ими дорогу: там, в конце реки ряд деревьев тонул в тумане; с каждой стороны деревья, расположившись как кулисы, склонялись и надвигались друг к другу, облитые светом по краям; от этого фона до лодки тянулась скатерть темно-синей воды, на которой местами сверкала и трепетала серебряная рябь; ближе к лодке темно-синий цвет делался все светлее и превращался в лазурный, почти белый, с тысячью огненных блесток, похожих на тысячу зеркальных осколков, которые прыгали, исчезали и вновь появлялись, или уносились течением, остановленные на минуту тростником, колеблемым ветром.
Вода журчала. Шелест деревьев, шум ветра, отрывающего листья, несся по обоим берегам. Вдали с каждой стороны русла Сены, на обоих розовых холмах, как бы цветущих вереском, происходил сбор винограда, и радостные крики крестьян отвечали шепчущей гармонии реки. Виноградники улыбались. Кругом все шелестело и пело, а эхо доносило удары молотков о пустые бочки, раздавшиеся как припев.
Они подвигались вперед, и река меняла свои берега. Они плыли мимо маленьких утесов, мимо отвесных холмиков, покрытых желтым песком, с которых свешивались побелевшие высохшие вьющиеся растения, напоминающие иловатые водоросли старых рек. Затем шли пространства, покрытые светлой, прозрачной зеленью, где играло солнце, и откуда каждую минуту выпархивали лапис-лазуревые птицы, зимородки, вереницей перелетающие с одного берега на другой. они плыли мимо живой изгороди из дикого шиповника с его коралловыми ягодами и спутанными ветвями; густые тростники, выпрямляя свои стволы, задевали за лодку, за которой по берегу тянулась длинная линия маленьких тополей с жидкой листвой, позолоченной осенью, ольховых деревьев с блестящими листьями, ив, серебрящихся на ветру.
Река суживалась под ивами, погребенными в крапиве, таинственные сумерки уже расстилали у берегов свой ковер из тени, над которым веселый день брал свое, луг сиял, лиловые холмы освещались солнцем, даже сама тень казалась туманом.
– Посмотри-ка, – говорила Марта, и показывала Шарлю устье ручья, черного и глубокого, как горлышко опрокинутой урны наяды. Кругом все было залито светом, начиная с дерева, склонявшегося над ручейком, и кончая полоской песка, которая пыталась заградить струю воды, пенящейся на своем каменистом дне.
Но Марта уже забыла о ручье. Она совсем наклонилась к воде. Взгляд её сосредоточивается на тысяче маленьких рыбок, похожих на тысячу черных булавок, спасающихся во все стороны. Он следит за листком тополя, листком ивы, которые крутятся в водовороте, за их тенью, идущую перед ними в глубине воды, или за водяным пауком, скользящим посреди кругов, которые все расширяются вкруг него. рассматривая дно реки, взгляд её теряется в беспредельной глубине, где сплетаются ветви и сучья, погребенные в окаменевшей тине. Взор её устремляется в камень или в пестрое дно, где что-то точно бьется в сети. Он скользит по этим водорослям, которые шевелит течение, он задумчиво останавливается на кучках желтых или почерневших листьев, которые годами лежат таким образом…