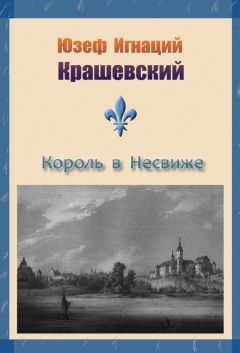Ознакомительная версия.
Якуб взмахнул рукой.
– А это же утка на вертеле, – сказал он, – тогда полностью сгорит!
– Чтоб его с этим письмом, – заворчал подкоморий и прибавил с героизмом, – ну и пусть сгорит! Чёрт её возьми! Дай мне рюмочку ликёра! С ужином подождать!
Верещчаке, когда говорил этим тоном, невозможно уже было делать никаких замечаний. Якуб пошёл за ликёром.
Подкоморий в уме приготавливал свой ответ, он ему не давался…
Он не имел вдохновения. Дать его мог ликёр – но иначе и с этим случается. Бывает тот, кто подкрепится, в голове неразбериху создаст.
Якуб принёс хлеб, соль и бутылку этого ликёра, которую подкоморий измерил изучающим оком, потому что ему что-то казалось, что в последний раз в бутылке он оставил его больше.
Подозрение пало на Якоба, но времени не было об этом спорить.
Спустя мгновение потом, закусив хлебом, подкоморий действительно почувствовал, что в голове у него прояснялось.
Слова и выражения как-то ловко у него выстраивались, прибежали на призыв; вязались друг с другом красиво; улыбался некоторым из них.
И хотя письмо он мог бы в такие минуты вдохновения симпровизировать смело, но оттого, что дело шло о случаи с подскарбиной, безопасней было бы и подумать, и черновик себе оставить.
Такой дневник может пригодиться.
Поэтому дело шло уже только о написании.
Застонал бедный Верещчака, потому что руки имел всегда немного раздутые и перо брал с отвращением. Но dura necessitas.
Он открыл ящик, в котором всегда бывало несколько аркушей бумаги, если не в линейку, то вполне приличной… Посмотрел, впустил руку – достал, но заместо белой синюю, простую, толстую, реестровую, на которой стыдно было отписать.
Лихорадочное опустошёние ящика извлекло из его лона: старые ножички, клубочек ниток, намотанных на бубнового туза, кусочек воска, напёрсток подкоморины, два старых конверта, уже порванных на квитанции для аренды, и линейку.
Белой бумаги – ни следа.
Подкоморий крикнул: «Якуб!», даже в другом конце дома всё закачалось, «Якуб!»
Старик, которого уже раздражила отсрочка ужина, вошёл насупившись.
– Где бумага? Бумаги нет? Куда могла подеваться? Кто смел переложить? Шесть аркушей тут, в этом ящике, сам положил.
Якуб о бумаге вовсе не знал, побежал за Доротой. Дорота заранее клялась, что с бумагой никогда дела не имела; а на Пасху под лепёшки, кроме старых реестров, ничего иного не брали. Быть, однако же, могло, что пани подкоморина, опасаясь злоупотребления, закрыла её в свой выдвижной ящик, ключ от которого взяла с собой.
Верещчака впал уже в такое отчаяние, Яська немедленно отправил на деревню за слесарем, чтобы силой вскрыл комод. Дорота протестовала – не помогло. Ясек уже отправился, когда Якуб, серьёзный и молчщий, из другого покоя принёс, найденные настоящим ясновидением, три аркуша бумаги, которые покоились в самом столике подкоморины.
Было их только три… но это могло позже объясниться.
Подкоморий остыл и сел… Приказал Якобу принести чернильницу.
Этот прибор, будучи очень редко в использовании, широкий на дне, с узкой шейкой, обычно заткнутый пробкой, стоял всегда, с незапамятных времён, на комоде в спальне. Каким-то образом он нашёлся на своём месте, но без пробки.
Несмотря на тёмно-сапфировое стекло, из которого он был отлит, рядом со свечой показался пустым – чернил не было в нём ни капли.
Но на это известный был способ: вливали немного тёплой воды и застывший осадок на дне давал совсем приятный сероватой цвет жидкости, с горошинками пыли, которая на бумаге принимала неопределённый цвет, но читаемый. Дорота принялась за воскрешение чернил.
Только теперь Верещчака припомнил себе, что, кроме бумаги и чернил, нужны были обязательно перья для письма. Якуб пошёл их искать и нашёл два. Одно было с длинным белым хвостом, красивое для глаза, но когда Верещчака к нему присмотрелся при свете, оно оказалось трагично порванным на две части и каждая из них выкручена была так, словно поклялась, что никогда не притронется к бумаге.
Второе перо, чуть обрезанное, как узникам головы стригут, было длинным, выглядело хорошим для использования, но рассохшееся, стёртое на конце, не совсем позволяло; первым его плодом был «еврей», которого подкоморий, жалея бумагу, по-студенчески облизал языком.
Сразу сплюнул, но потом остался такой неприяный вкус, что должен был приказать дать себе немного ликёра и хлеба с капелькой соли. Только тогда это прошло.
Замахнулся уже приступать к письму – и успокоенный Якоб отошёл к порогу, когда послышался крик, который подкоморий издавал только в минутах полного забвения.
– А, овод, чтоб тебя!..
Якуб стонал.
– Не пишет… шельма!
И бросил на стол перо так, что если бы потом даже хотел приспособиться к нему, не мог бы, потому что разбил его на части.
– Беги сейчас к эконому на фольварк… перья! На раны людские, перья! Чтобы в доме одного достойного пера не было! А то наказание – несчастье какое-то!
Якуб отправил Яська за перьями, а мальчик не имел привычки спешить. При том дело с экономом представляло, несмотря на свою простоту, некоторые трудности исполнения. Эконома не было дома. О тех его вечерних абсенциях, поскольку не был женат, ходили разные вести, обычно слухи. Официально же эконом должен был находиться у арендатора по причине сомнения в водке, находящейся в бочке. Подозревали его в доливании тайно её поставляемой.
Ясек, поэтому должен был бежать в корчму, а корчма находилась на добром расстоянии от дороги. Пришедши туда, эконома он не застал, только что ушёл, но где был, не знали.
Тем временем подкоморий проклинал, а так как уплывали четверти, напал на гениальную идею написания письма карандашом.
Сущестование карандаша в доме, немного мифическое, не позволяло себя проверить.
Дорота клялась, что только раз видела его маленький кусочек, которым, сильно его слюнявя, панна Петронела рисовала узор на перкале. Неизвестно, однако, был ли этот карандаш её собственностью или казённым.
Якуб смело говорил, что никакого карандаша не знал, потому что никто в нём тут не нуждался.
Подкоморий припомнил, что что-то валяющееся в выдвижном ящике, похожее на карандаш, своими глазами видел.
Перетрясли все возможные укрытия, в которых карандаш имел право покоиться – не нашли ничего.
Тем временем, что происходило с этой уткой, будущей уже на вертеле, страшно подумать.
Ясек вернулся через добрых полчаса с тремя перьями, уже использованными, стёртыми, из которых одно особенно порекомендовал эконом, как хорошо пишущее, но заранее заметил, что сам он никогда перьев заострять не умел, ножика для этого не имел и обычно перо получал от родственного ему доминиканца в Бресте.
Около свечи это рекомендованное, как хорошо пишущее, перо, казалось, имеет все необходимые качества. Не слишком исписанное, не слишком свежее, с немного потёртым носом, умеренно расщеплённое, выглядело на приличное экономское перо. Подкоморий смочил его, отряхнул, приложил к бумаге – писало. Вздохнул с облегчением.
Тонких черт нельзя было им написать, но с толстыми одинаково сносно мазало. Тут же Верещчака старательно написал: «Ясно вельможный подскарбий благодетель, очень милостивый ко мне пане и брат!»
Но тут была загвоздка. Флеминга некоторые звали графом, иные – по мнению, что в Польше шляхетское равенство титулам противилось, в этом саксонско-немецком атрибуте ему отказали.
Не подлежало сомнению, что «граф» должен был прийтись Флемингу по вкусу, с другой стороны было это подлизывание к магнату, в котором Верещчака не хотел быть заподозренным.
Положил перо – и ударил в пальцы.
– Пусть его, дам ему графа, когда ему это мило.
Согласившись, поэтому с наделением его титулом, написал заново:
«Ясно вельможый граф, пане подскарбий благодетель, мне очень…»
Снова загвоздка. Должен ли был назвать графа братом? Этот титул не допускал уже братства.
Верещчака встал, усталый, и прошёлся пару раз по комнате.
Потел – на часах было половина девятого. Утка – не хотел думать об утке, хотя был это чирок, после которого пальцы себе оближешь.
Должна была сгореть до уголька.
Сел писать, дело титула, братства и т. п. откладывая на потом, начал состовлять письмо дальше.
Мысли, которые в первые минуты после ликёра так живо и охотно ему приходили, куда-то исчезли, спрятались, шло как из камня.
«Гордый почтенным Вашим письмом, к которому моя оценка и высокое уважение всегда…»
Снова сук.
Уважение должно быть глубоким или высоким? Подкоморий бегал, путался – и начало ему попеременно делаться то холодно, то жарко.
Разрываясь между высоким и глубоким, он мог только составить узус, нужно, поэтому было искать в письмах. Верещчаке сделалось холодно – он предпочитал уже всё это начало обратить иначе. Поэтому смазал – начал заново.
Не далее как в четвёртом вирше произошла новая трудность – застрял.
Ознакомительная версия.