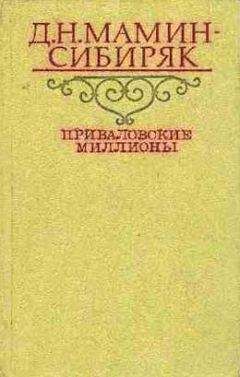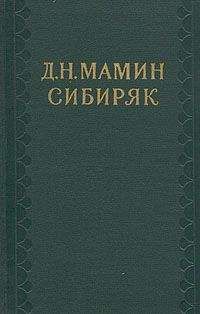Когда Надежда Васильевна улыбалась, у нее на широком белом лбу всплывала над левой бровью такая же морщинка, как у Василья Назарыча. Привалов заметил эту улыбку, а также едва заметный жест левым плечом, – тоже отцовская привычка. Вообще было заметно сразу, что Надежда Васильевна ближе стояла к отцу, чем к матери. В ней до мельчайших подробностей отпечатлелись все те характерные особенности бахаревского типа, который старый Лука подводил под одно слово: «прерода».
Конец обеда прошел очень оживленно. Хиония Алексеевна, как ни сдерживала свой язык, но под конец выгрузила давивший ее запас последних городских новостей. Привалов, таким образом, имел удовольствие выслушать, что Половодов, конечно, умный человек, но гордец, которого следует проучить. Всего несколько дней назад Хионии Алексеевне представлялся удобный случай к этому, но она не могла им воспользоваться, потому что тут была замешана его сестра, Анна Павловна; а Анна Павловна, девушка хотя и не первой молодости и считает себя передовой, но… и т. д. и т. д.
– Да что я говорю? – спохватилась Хиония Алексеевна. – Ведь Половодов и Ляховский ваши опекуны, Сергей Александрыч, – вам лучше их знать.
– Лично мне не приходилось иметь с ними дела, – ответил Привалов.
– Да, да… A Nicolas Веревкин… ведь вы, кажется, с ним вместе в университете учились, если не ошибаюсь?
– Да, вместе.
– Какой это замечательно умный человек, Сергей Александрович. Вы представить себе не можете! Купцы его просто на руках носят… И какое остроумие! Недавно на обвинительную речь прокурора он ответил так: «Господа судьи и господа присяжные… Я могу сравнить речь господина прокурора с тем, если б человек взял ложку, почерпнул щей и пронес ее вместо рта к уху». Понимаете: восторг и фурор!..
– Нужно спросить, Хиония Алексеевна, во что обходится остроумие Веревкина его клиентам, – заметил Бахарев.
– Ах, Василий Назарыч… Конечно, Nicolas берет крупные куши, но ведь мы живем в такое время, в такое время… Не правда ли, Марья Степановна?
Марья Степановна ничего не ответила, потому что была занята поведением Верочки и Виктора Васильича, которые давно пересмеивались насчет Хионии Алексеевны. Дело кончилось тем, что Верочка, вся красная, как пион, наклонилась над самой тарелкой; кажется, еще одна капелька, и девушка раскатилась бы таким здоровым молодым смехом, какого стены бахаревского дома не слыхали со дня своего основания. Верочку спасло только то, что в самый критический момент все поднялись из-за стола, и она могла незаметно убежать из столовой.
VI
Сейчас после обеда Василий Назарыч, при помощи Луки и Привалова, перетащился в свой кабинет, где в это время, по стариковской привычке, любил вздремнуть часик. Привалов знал эту привычку и хотел сейчас же уйти.
– Нет, постой, с бабами еще успеешь наговориться, – остановил его Бахарев и указал на кресло около дивана, на котором укладывал свою больную ногу. – Ведь при тебе это было, когда умер… Холостов? – старик с заметным усилием проговорил последнее слово, точно эта фамилия стояла у него поперек горла.
– Нет, я в это время был в Петербурге, – ответил Привалов, не понимая вопроса.
– Нет, не то… Как ты узнал, что долг Холостова переведен министерством на ваши заводы?
– Когда я получил телеграмму о смерти Холостова, сейчас же отправился в министерство навести справки. У меня там есть несколько знакомых чиновников, которые и рассказали все, то есть что решение по делу Холостова было получено как раз в то время, когда Холостов лежал на столе, и что министерство перевело его долг на заводы.
– Меня просто убило это известие, – грустно заговорил Бахарев. – Это несправедливо… Холостов как ваш вотчим и опекун делает миллионный долг при помощи мошенничества, его судят за это мошенничество и присуждают к лишению всех прав и ссылке в Сибирь, а когда он умирает, долг взваливают на вас, наследников. Я еще понимаю, что дело о Холостове затянули на десять лет и вытащили решение в тот момент, когда Холостова уже нельзя было никуда сослать, кроме царствия небесного… Я это еще понимаю, потому что Холостов был в свое время сильным человеком и старые благоприятели поддерживали; но перевести частный долг, притом сделанный мошеннически, на наследников… нет, я этого никогда не пойму. А затем эти семьсот тысяч, которые были взяты инженером Масманом во время казенной опеки над заводами, – они тоже перенесены на заводы?
– Да, и они перенесены на нас, потому что деньги были выданы правительством Масману на усиление заводского действия.
– Хорошо. Но ведь Масман до сих пор не представил еще никакого отчета о расходовании этих сумм?
– Ничего не представил.
– Я писал тогда тебе об этом, чтобы хлопотать непременно и притянуть Масмана во что бы то ни стало.
– Василий Назарыч, ведь со времени казенной опеки над заводами прошло почти десять лет… Несмотря ни на какие хлопоты, я не мог даже узнать, существует ли такой отчет где-нибудь. Обращался в контроль, в горный департамент, в дворянскую опеку, везде один ответ: «Ничего не знаем… Справьтесь где-нибудь в другом месте».
– А Масман живет в Петербурге?
– Да, зимой в Петербурге, а летом в Крыму, в собственном имении.
– Купленном на ваши деньги?.. Ха-ха… Ты был у него?
– Несколько раз.
– «Болен» или «не принимают»? Подлецы…
Василий Назарыч тяжело завозился на своем диване и закусил губу.
– А ты знаешь, сколько с процентами составляют эти два долга?
– Около четырех миллионов…
– Да. Когда отец твой умер, на заводах не было ни копейки долгу; оставались еще кой-какие крохи в бумагах да прииски. Когда мачеха вышла за Холостова, он в три года промотал все оставшиеся деньги, заложил прииски, сделал миллионный долг и совсем уронил заводы. Я надеялся, что когда заводы будут под казенной опекой, – они если не поправятся, то не будут приносить дефицита, а между тем Масман в один год нахлопал на заводы новый миллионный долг. Когда заводы перешли в опекунское управление, я надеялся понемногу опять поднять дело. Костя вот уж пять лет работает на них, как каторжный, и добился ежегодного дивиденда в триста тысяч рублей. Но куда идут деньги?.. Чтобы выплатить четырехмиллионный долг, необходимо поднимать заводы; затем из этих же денег приходится выплачивать хоть часть процентов по долгу; наконец, остатки уходят на наследников. Мачеха получила свою четырнадцатую часть, вас трое…
– Моя часть целиком уходила на хлопоты, Василий Назарыч.
– Разве я не знаю… Что же, ты видел эту… ну, мачеху свою?
– Нет, я сам не видал, а слышал много.
– Она все в Москве?
– Да. Второй брат страдает тихим помешательством, а младший, Тит, пропал без вести.
– Да, слышал, слышал… Что-нибудь да не чисто в этом деле, я так думаю.
– Теперь трудно сказать, Василий Назарыч.
– Взять теперешних ваших опекунов: Ляховский – тот давно присосался, но поймать его ужасно трудно; Половодов еще только присматривается, нельзя ли сорвать свою долю. Когда я был опекуном, я из кожи лез, чтобы по крайней мере привести все в ясность; из-за этого и с Ляховским рассорился, и опеку оставил, а на мое место вдруг назначают Половодова. Если бы я знал… Мне хотелось припугнуть Ляховского, а тут вышла вон какая история. Кто бы этого мог ожидать? Погорячился, все дело испортил.
– Зачем вы так говорите, Василий Назарыч?
– А вот поживи с мое, тогда и сам узнаешь, что и чего стоит. Нет, голубчик, трудно жить на белом свете: везде неправда, везде ложь да обман. Ведь ограбили же вас, сирот: отец оставил вам Шатровские заводы в полном ходу; тогда они больше шести миллионов стоили, а теперь, если пойдут за долг с молотка, и четырех не дадут. Одной земли четыреста тысяч десятин под заводами… Ох-хо-хо! Не думал я дожить до того, чтобы Шатровские заводы продали за долги. Ведь половина в этих заводах сделана на гуляевские капиталы. Да, Павел-то Михайлыч и дочку-то свою загубил из-за них… Ну, будет, ступай теперь к бабам, а я отдохну.
Бахарев воспользовался случаем выслать Привалова из кабинета, чтобы скрыть овладевшее им волнение; об отдыхе, конечно, не могло быть и речи, и он безмолвно лежал все время с открытыми глазами. Появление Привалова обрадовало честного старика и вместе с тем вызвало всю желчь, какая давно накопилась у него на сердце.
VII
Хиония Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, как только заслышала шаги подходившего Привалова; она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марьи Степановны, проговорила с ударением:
– Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь свои…
Привалов шел не один; с ним рядом выступал Виктор Васильевич, пока еще не знавший, как ему держать себя. Марья Степановна увела гостя в свою гостиную, куда Досифея подала на стеклянных старинных тарелочках несколько сортов варенья и в какой-то мудреной китайской посудине ломоть сотового меда.