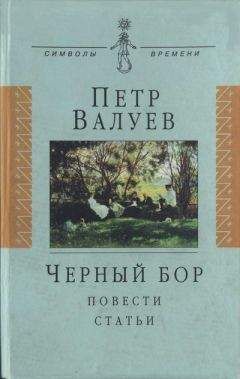Читатель мог заметить, что я не злоупотребляю священными текстами и даже избегаю, по возможности, их приводить и на них опираться. С другой стороны, мне, конечно, нельзя пользоваться точными научными доводами. По свойству предмета я вынужден ограничиться выводами, основанными на аналогических данных и на результате наблюдений, которые самим читателем могут быть проверены. Современная опытная наука утверждает, что то нечто, для нее самой по существу загадочное, что она называет «материей», неистребимо. Если материальное только видоизменяется, но не может уничтожаться, то почему допускать, что могло бы уничтожиться духовное? Наука также считает «целесообразность» общим признаком или законом явлений природы. Трудно было бы усмотреть такую целесообразность в духовной жизни человека, если бы за нею не следовало другого бытия. Уже 2500 лет тому назад было сказано, что наша жизнь длится до 70, а при большой крепости до 80 лет, и лучшая доля этих лет труд и болезнь[13]. Та же мысль высказывается и в наше время, но не звучит прежним смирением.
Заповедь смирения не есть, однако же, заповедь бездеятельности ума. Наш ум искра верховного разума. Эта искра может постоянно светить нам, и ее свет становится ярче под кровом духовного смирения, подобно тому как наши земные огни горят светлее, когда защищены от изменчивого дыхания ветра. Наш ум сам проповедует нам смирение, то есть сознание таинственного высшего, нами непостижимого, над уровнем всего, что нами может быть постигнуто и познано. Наш ум убеждает нас, что наука раздвигает пределы знаний, но не возвышает их уровня. Тайной остается наше духовное «я», как было тайной тысячелетия до нас. Исповедники молитвенного воззрения смело могут на то указывать исповедникам немолитвенного. Первым доступно все, доступное вторым; но вторые добровольно отказались от доступного первым. Вторые не замечают, что они часто впадают в противоречия, отвергают сегодня то, что вчера признавали истиной, и бессознательно непоследовательны. В октябре 1884 года известный оратор и ученый, американский посланник в Англии, г. Лоуелль, развивал в произнесенной им в Бирмингаме речи современную эволюционную теорию и сказал, что в слове «революция» кроется орфографическая ошибка и буква «р» лишняя. Но в той же самой речи тот же г. Лоуелль утверждал, что человеческий ум никогда не мог подняться выше мышления Аристотеля и Платона. Следовательно в этом отношении эволюции не было в продолжение двух тысячелетий. Эволюционисты могут и в священных писаниях усматривать только ряд эволюций человеческой мысли или ряд исторических фазисов развития религиозного чувства. Но не к таким заключениям приходим мы, когда мы в них вчитываемся без предубеждений и без того равнодушия к предмету, которое к критическим сомнениям предрасполагает. Тогда мы невольно поддаемся обаянию единства верующей мысли и верующего чувства, которым эти писания с начала до конца проникнуты. Мы глубже вникаем в их заветный смысл и менее смущаемся расстилающеюся иногда в них иносказательною завесой. Мы сознаем, что тысячелетия идут мимо, но существенное содержание этих священных хартий остается непоколебленным. Они стоят по-прежнему выше всех земных уровней, выше всех произведений человеческого ума, всех успехов науки и всех перемен в судьбе царств и народов. Евангелие по-прежнему обнимает всю область духовной жизни человека и печать божественного вдохновения сохраняется на книгах Ветхого Завета. В них почти на каждой странице отражаются те идеи, которые лежат в основании нынешнего здания нашей веры: идея Единого Бога, идея последовательных божественных откровений, идея прямых указаний человекам Божией воли, идея любви Бога к человеку, идея божественного всеведения, предведения, всемогущества и, наконец, идея таинственного, человеческому уму непостижимого предуготовления почвы для духовного Израиля, т. е. для церкви Христовой.
Перед непостижимым мы призваны благоговейно смиряться. Мы часто встречаемся, в священных писаниях, не только с тем, что вообще превосходит силы нашего разумения, но и с тем, что нам стало непонятным в силу перемен, происшедших в условиях нашего быта, в нравах и верованиях. Если бы не так было, то священные книги не были бы для нас священными книгами. Многое сказано в них только так, как могло быть сказано в то время, когда книга составлялась. Многое недосказано. На вопрос, почему недосказано, только один ответ: мысли Господни не наши мысли. Наука более удовлетворительного ответа дать не может. Научное богословие не отвечает на вопрос: почему духу зла дан такой простор на земле?
Наш ум указывает на длинный ряд открытий, изобретений, наблюдений, выводов и теорий, которыми мы обязаны предшедшим поколениям или нашим современникам; он указывает на все приобретенное нами в сфере знаний, жизненных удобств, способов всякого рода деятельности; но в то же время удостоверяет нас, что все эти приобретения чужды, по существу, нашей внутренней, духовной и душевной, каждому из нас исключительно принадлежащей жизни. Если в нас обнаружились развитие душевных сил, поднятие уровня чувств и стремлений, ослабление себялюбия, возрастание способности любви к другим, соответствующее этой любви расширение области нравственных страданий, и вместе с тем способность ощущения мира души, вернейший признак одуховления нашей природы, то мы всем этим обязаны не успехам науки, но благодати верований.
Я вправе предположить, что все читатели обладают известным запасом знаний и что многие из них стоят, как говорится, на высоте современной науки. Я не менее вправе предположить в них и добрые свойства, и добрые чувства. Прошу их себе поставить вопрос: насколько они такими свойствами и чувствами обязаны своим знаниям, и чистосердечно на этот вопрос ответить. Прошу их затем сравнить полученный ответ с их собственными наблюдениями над людьми, с кем жизнь их ставила в близкие отношения. Наконец, если им случалось видеть, как люди умирают, то прошу вспомнить о различии вынесенных ими притом впечатлений, смотря по мировоззрению, к которому умиравшие принадлежали.
Опыт убеждает, при таких сравнениях и наблюдениях, не только в слабом влиянии на человека этических стихий, присущих наукам, но и в ошибочности весьма распространенного, смутного предубеждения, будто высокий уровень научного образования трудно мирится с верою, по крайней мере, с катехизическою верой.
XII
Катехизическою или конфессиональною я называю веру с тем отличительным оттенком вероучения, который себе усвоила та или другая христианская церковь. Очевидно, что христиане не по собственному выбору принадлежат к разным церквам. Каждый из них вступает в лоно своей церкви преемственно, в младенчестве, а затем нравственно обязан ей оставаться верным, доколе искренняя перемена убеждений, в зрелом возрасте, не побудит его к переходу из одного исповедания в другое. – О различии верований я буду иметь повод упомянуть впоследствии. – Здесь ограничиваюсь выражением общей мысли, что катехизические оттенки, при существующем разделении церквей, суть признак искренности верований. Живая вера требует определительности основных догматов и сознания духовного единения с единоверцами. Без этого единения неосуществима идея церкви.
В какой мере осуществляется эта идея у нас? Над этим вопросом трудно не приостановиться. – Не в церкви ли, и церкви мы наиболее обязаны правдой? Но много ли правды в наших к ней отношениях? Можем ли мы чистосердечно себя признавать ее чадами и членами? В духовном смысле церковь у нас идея; в реальном – учреждение; в приложении к жизни – тождество исповедания веры и общность молитвословий, но без другой общности и без практического сознания нашего церковного единства. Мы все причисляем себя к той церкви, которая себя именует и которую мы называем «Восточною, Кафолическою, Православною». Но многие ли из нас могут сказать, что они живо ощущают свою церковную солидарность?
Мне кажется, что наша жизнь, как общественная, так и частная, ушла от церкви. Напрасно церковь на то не обращала и не обращает внимания. Остановить поступательное движение церковь не могла, игнорировать его не должна, быть к нему равнодушною не может. Она должна сознавать условия и пределы возможного при истине и искренности верований. Меняются времена, обстоятельства, взгляды и нравы; но церковь призвана стоять над всеми переменами, на одинаково высоком и незыблемом уровне. Так ли у нас? Мы уклонились от влияния церкви. Церковная жизнь нам вообще стала чуждою. Церковный год для большинства из нас не церковное, а календарное понятие. Между тем он по своей основной идее должен быть непрерывным напоминанием и постоянною проповедью. Мы живем собственно не в церкви, а рядом с церковью, в почтительном с нею общении, но в общении, не препятствующем обособляться по нашему изволению. Reservatio mentalis наш частый спутник. Мы отводим церкви из нашей жизни только известную, разными соображениями определяемую долю. Если мы веруем, то веруем, так сказать, огулом, в главных чертах, а не по уставу, и об этом несогласии с уставом и с предположениями пастырей паства умалчивает. Быть может, только при говений, по обычаю, великим постом, приносится какое-то общее, даже не всегда вполне искренное, торопливо и неясно высказываемое и торопливо принимаемое исповедное покаяние. Одни ли мы, миряне, ответчики за это фактическое противоречие? Не стоят ли сами пастыри только у алтаря, а среди церкви пасомых? Нет взаимной опоры. Нет того участия духовенства в жизни страны, которым свидетельствуется единящая жизнь самой церкви.