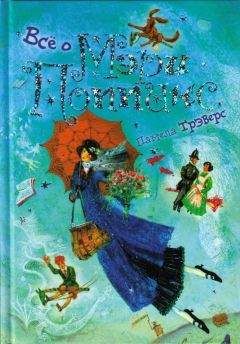До этого в нашей семье ели, сидя на огромной родительской кровати. Эту кровать сделали из двух, соединив железными вешалками для одежды две спинки. Мать говорила, что ей нужно место, чтобы раскинуться на кровати, из-за большой влажности. Мы с Лишей неправильно расслышали вместо «влажности» «глупость» и поэтому часто говорили: «Все дело не в жаре, а в глупости»[10]. В общем, у нас была, кажется, самая большая в мире кровать, которая занимала всю родительскую спальню. Из-за кровати в комнате совсем не оставалось места, поэтому комод пришлось переставить в коридор. Единственное, что поместилось в спальню кроме кровати, – это медная пепельница в виде корабля викингов с папиной стороны и стопка книг и настольная лампа – с маминой.
Мы ели, сидя по-турецки на кровати спиной друг к другу и лицом к стене, как четырехглавый языческий бог. Тарелки мы ставили на покрывало между ног. Мать называла это «есть как на пикнике». После того как я немного подросла, мне все это показалось странным, и я даже думала написать письмо в газету с вопросом: едят ли другие семьи, сидя спиной друг к другу на родительской кровати, и что это значит?
Но после появления в доме бабушки мы начали есть не просто за столом, но и на скатерти. Мать наняла негритянку Мей Браун, чтобы та стирала и гладила скатерть и салфетки. Раньше мы приходили домой, снимали одежду и переодевались в пижамы или ходили в трусах в любое время дня и ночи. В сильную жару мы часами лежали полуголыми на прохладном деревянном полу перед вентилятором и льдом на кухонных полотенцах. Но после появления в доме бабушки нам пришлось ходить даже в обуви и носках. Кроме этого мы начали каждый день мыться. Помню, как после одной из первых ванн бабушка положила меня на жесткое полотенце у себя на коленях и очищала грязь на шее жидкостью для снятия лака (по ее словам, у меня на шее была короста).
Бабушка занялась нашим религиозным воспитанием, которое до этого сводилось к нерегулярному посещению воскресной школы и выполнению упражнений из маминой книги о йоге (в возрасте пяти лет я прекрасно сидела в позе полного лотоса). Бабушка купила нам с Лишей по белой Библии в застегивавшихся на молнию футлярах.
– Читайте по три главы в день и по пять в воскресенье, и осилите за год, – говорила бабушка. Я даже ни разу не открыла Библию после того, как мне ее подарили. Бабушка имела склонность откладывать все слишком сложное, так произошло и с превращением нас в христиан.
Потом, гораздо позднее, мать рассказала нам о том, что у бабушки всегда были странности. Нельзя назвать ее религиозным фанатиком, скорее, она была фанатиком вообще. Однажды, когда мать была маленькой, бабушка выписала набор для шпиона. Вместе с дочерью она планировала следить за соседями. В те времена население Лаббока не превышало тысячи человек. Мать рассказывала, что бабушка следила за соседями на протяжении нескольких недель. Причина слежки была в желании уличить соседей, но не в изменах или в других смертных грехах, а в том, что они пекут пироги из покупного теста. Бабушка составила список попавших в поле ее зрения жителей в алфавитном порядке и вписывала напротив фамилии ответ на свой вопрос. В отношении особо подозрительных она отмечала, когда человек выходит из дома и когда возвращается. Она умела снимать отпечатки пальцев и хранила отпечатки дочери в своей поваренной книге на случай, если ту похитят. Кроме этого бабушка собирала волосы и пыль в гостях и хранила их в специальных криминалистических конвертах. Она могла спокойно пить чай у какой-нибудь соседки, после чего внезапно засунуть конверт с чем-то вроде пыли в карман передника. Мать не знала, что бабуля делала с доказательствами. Потом игра в детектива закончилась так же неожиданно, как и началась.
Бабушка принесла в наш дом свои странные привычки. До ее появления соседи мало что знали о нашей семье, мы были почти аутсайдерами. Конечно, они слышали звуки ругани родителей в ночи и, вполне вероятно, нами из-за этого пренебрегали, но никто никогда не спрашивал напрямую: является ли наша мать нервной или как у нас идут дела? В церковь мы не ходили. Никто не заходил к нам в гости. Наверное, соседи относились к нашей жизни, как к телешоу с помехами. Теперь, глядя на нас пронзительно-голубыми глазами, бабушка говорила: «Можно предложить?» или «А почему бы вам не…?»
При этом она сама была скрытной. Действовала суматошно, будто по грандиозному плану, но бог знает по какому. Например, в ее огромной черной сумке из крокодиловой кожи кроме обычных вещей, которые может носить женщина ее возраста, скажем, фиолетовых носовых платков и косметики, лежала, честное слово, ножовка. Такие ножовки я видела только в фильмах категории «Б», когда преступники пилят тюремную решетку, чтобы вырваться на свободу. Я не придумываю, моя сестра тоже видела. Мы с ней шутили о том, что держим бабушку в заложниках и она хочет от нас сбежать.
Мне всегда казалось, что в нашей семье недостает внимательной и заботливой женщины. Она бы пекла печенье, завивала мне волосы и шефствовала надо мной. Тем не менее с появлением бабушки мое поведение ухудшилось. Я начала грызть ногти. Я стала выкидывать такие фокусы, что даже отец не находил их смешными. Сорвала новые занавески и ногтями изодрала Лише щеки. Сколько меня ни били, мое поведение не улучшалось. Знатная плакса, я не издавала и звука, когда меня наказывали. Помню, как отец отстегал меня небольшой плеткой. Икры у меня были в полосах и болели, но я твердо сказала: «Давай, бей маленькую девочку, если это поможет тебе почувствовать себя мужчиной». После этого экзекуция сразу прекратилась.
Жизнь Лише была проще, потому что она умела лучше подхалимничать и была спокойнее. Тем не менее общий психологический настрой в доме влиял и на нее. Однажды сестра засунула меня в ящик, выдвигавшийся из стены в ванной, и оставила орать среди заплесневелых полотенец. Там я просидела до тех пор, пока меня не вытащила вернувшаяся из магазина Мей Браун.
Лиша использовала столько лака, приглаживая челку, что ее не мочил дождь и не сдул бы любой ураган. (Я звала ее Шлемоголовой.) Она удлинила все свои платья, чтобы они были ниже колен. На фотографиях тех времен сестра похожа на ребенка, играющего роль взрослого, так что весь ее облик был несуразным – не взрослым и не детским. Однажды она заставила меня забраться себе на плечи, после чего мы надели длинное коричневое пальто, доходившее ей до колен. Так мы ходили по улицам, изображая даму, которая собирает деньги на нужды Американского общества борьбы с раковыми заболеваниями. Никто не дал нам и цента.
Впрочем, в оправдание бабушки можно сказать, что она в возрасте пятидесяти лет умирала от рака. Но даже с учетом этого я не припоминаю ни одного проявления чувств ни с ее, ни с моей стороны. Щеки ее сморщились, как старое яблоко, и вся она пахла гиацинтами. Я заставляла себя целовать ее щеку, несмотря на то что очень любила обниматься и была готова заключить в объятия любого человека, невраждебно настроенного к нашей семье: кассиршу в супермаркете, продавца пылесосов или автомеханика.
Самым неприятным были не изменения вследствие приезда бабушки, а тишина, наступившая с ним. Никто и словом не упоминал о нашей жизни до того. Перемены накрыли нашу семью, как цунами, будто смывая нас прежних. Я догадывалась: стоит только предложить снова пообедать на родительской кровати или раздеться по приходу, как наш дом будет неминуемо опозорен. Судя по всему, раньше мы жили совершенно неправильно.
Я вкратце описывала развитие бабушкиной болезни интересующимся соседкам: «Сначала ей отрезали ноготь, потом палец, а потом и всю стопу. Потом ее ногу лечили горчичным газом, пока она не почернела. Бабушка кричала без перерыва шесть недель. Ей отрезали ногу. Когда мы пришли ее навестить, она назвала Лишу другим именем. Когда ее перевезли к нам домой, метастазы распространились в мозг, она сошла с ума и муравьи ползали у нее по руке. Потом она умерла».
После этой короткой речи мы с Лишей начинали осматривать соседскую кухню на предмет быстрорастворимых прохладительных напитков и печенья. Мы знали: такой отчет принесет нам бонусы. Через некоторое время Лиша даже научилась выдавливать из себя пару слезинок, после чего нас иногда угощали мороженым. Я бы и слезинки не проронила из-за бабушки, даже если бы меня пытали. Но я знала свою роль и убедительно кивала в подкрепление всхлипываниям сестры. Как практически во всех делах со взрослыми, я давила на жалость, чтобы получить желаемое.
Довольно долго я говорила о медленной смерти от рака бабушки вот так кратко. Возможно, выслушавшие это повествование женщины поражались моей черствости, а не начинали меня жалеть, как я рассчитывала, и спрашивать, как я все это перенесла. Должна признаться, что это неправда. Я так и не смогла выкинуть из головы кошмар, длившийся восемнадцать месяцев.