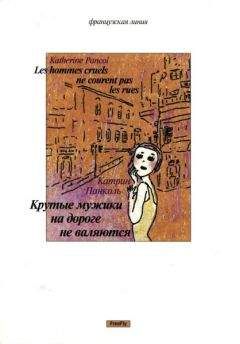А что потом?
Потом он ушел по Мэдисон, один раз улыбнулся и развел руками, словно говоря: «Ну вот так, мы ничего не можем с этим поделать. Она смотрела ему вслед, замерев в одночасье, она не могла сдвинуться с места, он забрал все ее силы, нужно было прийти в себя.
Она постояла несколько минут, прислонившись к красной кирпичной стене, и успокаивая нотами свое бешено бьющееся сердце.
На кухне горел свет, она услышала голоса. Мужской голос и женский. Женский голос о чем-то умолял, а мистер Г. отвечал сухо и резко, его слова звучали как удар хлыста. Щелкал, щелкал его голос, а другой молил, стелился, вопрошал. Она услышала боль в этом женском голосе. И тут мистер Г. внезапно вскочил, опрокинув стул.
– Я же сказал – НЕТ! – закричал мистер Г. – Нет, нет и еще раз нет! Неужели не ясно?
Калипсо незаметно прошмыгнула в коридор, который вел в ее комнату. Тихо открыла дверь. Прикрыла ее. Гордо выпрямилась, стряхивая с себя образ мышки, которая шмыгает вдоль стеночки: «Ох, нет, нет, я уже вовсе не мышка, я теперь королева!
Гэри Уорд поцеловал меня.
По-це-ло-вал».
Она прошлась по комнате как королева. Величественная, почти высокомерная. «Я красива, – сказала она себе, – я красива, он поцеловал меня, он долго меня целовал, это о многом говорит, ведь я его предупредила, я предупредила его и он не отступил. Как моя жизнь начала бить ключом и как я хочу пить из этого источника!»
Она убрала скрипку. Открыла окно, вылезла на пожарную лестницу. Заржавленную лестницу, которая косым штрихом пересекала вид в окне. Солнце лежало над Манхэттеном, алый свет падал на деревья, превращая их в огненно-рыжие сполохи, мелькающие тут и там. Похоже было, что в городе пожар. Она прислушалась, но не услышала сирен пожарных машин.
Она яростно почесала нос – точно тысячи муравьев поселились в нем.
«Пожалуй, во мне все перевернулось кверху дном. Пожалуй, я больше не знаю, что и думать.
Гэри Уорд поцеловал меня».
Сидя на заржавленной лестнице, она сверху смотрела на город. Заметила в соседнем дворе гипсовую статую Пречистой Девы, царившую над садиком. Дева Мария была окружена гирляндой из лампочек, которые мигали, и Калипсо ощутила религиозный подъем и осенила себя крестным знамением. «Гэри Уорд поцеловал меня, Гэри Уорд поцеловал меня. Нужно утихомирить поток моих мыслей и шум сердца. Однажды, возможно, я скажу просто Гэри, и тогда, тогда…
А что тогда, я не знаю. Я мало чего понимаю в любви. Тут я дебютантка.
Что же будет?»
Она посмотрела на горшок, где когда-то, живая и цветущая, росла рогатая фиалка, viola cornuta. Изогнулась, опустила лицо в коричневые, сгнившие листики. У нее не хватало духу ее выбросить. Дула на нее, брызгала на листики, рассказывала про концерт, про аплодисменты, но фиалка больше не слышала. Она увядала на глазах, никла и темнела. Калипсо плакала, глядя на нее, потом спохватывалась: «Да ты что, Калипсо, это же цветок, всего-навсего цветок, он должен в конце концов увянуть, да, я знаю, я знаю, – говорила она, утирая слезы, – но это же моя наперсница».
Она вздохнула, ей хотелось, чтобы кто-нибудь узнал, как она счастлива, прочел это на ее лице, ставшем чистым и белым, на губах, пополневших и заалевшихся после поцелуя.
Голоса на кухне стали громче, это уже были крики и жалобы. И резкий голос мистера Г. постоянно перекрывал страдающий голос женщины.
– Об этом не может быть и речи, – орал он. – Ты что, не понимаешь? Не может быть и речи!
А потом, похоже, послышались рыдания.
Калипсо заткнула уши, она не хотела этого слышать.
Она хотела остаться в своей музыке, вести свою мелодию: «Гэри Уорд поцеловал меня, до-ре-ми-фа-соль-ре-до, мои губы стали нежными и горячими. Это не был рассеянный дружеский поцелуй на прощание, это был настоящий поцелуй, Гэри Уорд взял меня руками за лицо, его губы легли на мои губы. Это был настоящий поцелуй, настоящий поцелуй…»
– Ни за что! Слышишь ты меня! Ни за что!
Теперь уже явно мистеру Г. было несладко. В его голосе слышались растерянность, отчаяние, боль. Словно он защищался от опасности. Словно он был последним препятствием на пути опасности, и он из последних сил напрягал мускулы, чтобы его не смели с лица земли. Она услышала этот крик об опасности в раскатах голоса, которые наполняли кухню и доносились даже до пожарной лестницы за окном.
Она слезла, закрыла окно.
Неслышными шагами выскользнула в коридор. Приоткрыла дверь в кухню.
За столом сидела дама. Красивая блондинка смотрела на мистера Г., который отчаянно мерил шагами пространство от стола до старой плиты. По щекам дамы катились слезы.
Калипсо показалось, что она ее знает. Может быть, это какая-то актриса? Дама повернулась к двери и заметила ее.
Она вытерла лицо рукавом. На правой руке у нее было два красивых кольца.
Мистер Г. заметил Калипсо и заорал:
– А ты что еще здесь делаешь? Марш в свою комнату!
Она не могла стронуться с места. Кухня ходуном ходила от страстей, разыгрывавшихся на ее глазах. Мистер Г., как боксер в состоянии грогги, стоял, ухватившись за спинку стула. Он мотнул головой, прогоняя обморок, и глубоко вдохнул.
– Ты – Калипсо? – спросила женщина.
Она как-то странно подобралась, как перед броском, глаза ее жадно шарили по лицу Калипсо. Та кивнула в ответ.
– Сучье вымя! – заорал мистер Г. – Дуй в свою комнату! Нечего тебе тут делать!
Калипсо подскочила, отступила на шаг.
Светловолосая женщина поднялась с места и попыталась удержать ее:
– Калипсо! Калипсо!
– Эмили! Сядь сейчас же! Оставь ее в покое, ты меня поняла? Оставь ее в покое, или я тебя удавлю!
Светловолосая дама села и закрыла лицо руками.
– Ты не имеешь права, ты не имеешь права, – повторяла она, всхлипывая.
В ее поникших плечах и затылке ощущалось бессильное отчаяние женщины, привыкшей повиноваться.
Мистер Г. махнул Калипсо рукой: отвали, мол.
– Черт! Дуй отсюда! Сказал же!
На следующее утро, когда она проснулась, счастье билось в ней, она была как былинка, которая гнется под ураганом счастья. Ей хотелось потянуться, воспарить, улететь, схватить кусочек неба и вгрызться в него, как вгрызаются в арбузную мякоть. Счастье струилось по ее губам, по ее пальцам, пропитывало ее, обволакивало своим ароматом, своим теплом, растворяло в себе, облачало в прекрасное сказочное платье, она распахивала его и запахивала, счастье было безгранично и всевластно. Нечто необыкновенное и важное произошло вчера, это нечто изменило ее жизнь, ее кожу, цвет ее лица и волос, ее ногти стали блестящими, а запястья – мягкими и бархатистыми. Она ждала, лежа в постели, когда это безотносительное счастье станет более конкретным, воплотится в реальность и от этого станет еще более прекрасным. Она ждала, трепетала, волновалась, подстерегала и выслеживала свои мысли, посмеивалась, прыскала – еще рано, она пока не хочет знать все точно, не сейчас! Еще не время! Пусть еще немного продлится это ожидание, пусть задержится еще эта восхитительная неопределенность! Она провела пальцами по губам, радостно рассмеялась – она вспомнила. Она вспомнила. Он поцеловал меня. Он меня поцеловал! Она коснулась губами своей руки, изобразила поцелуй, перевернулась в кровати, завернулась в одеяло, он поцеловал меня, он меня поцеловал, она словно вальсировала в постели, раз-два-три, раз-два-три. «Он поцеловал меня», – твердила она раз за разом, повторяя все те фразы, которые они произносили, касаясь губами, вчера вечером, обнявшись, не в силах разнять объятий, прижавшись друг к другу, тая на глазах… Тут она почесала нос, муравьишки вернулись в муравейник, это что-то новенькое, это после поцелуя у меня кружится голова, ох, это он, это он! И Гэри Уорд становится все выше и выше, ей уже не удавалось достичь его высоты, она хотела бы, чтобы он был здесь, нет, она не хотела бы, чтобы он видел ее в таком виде, это было бы слишком просто, словно легкая добыча, надо, чтобы он опять склонился к ней, чтобы вдохнул ее запах, о да, этот его запах лаванды, голова кружится от слов, от чувств с какой-то неистовой силой, и она просит у гипсовой Пречистой Девы замолвить за нее словечко, дать ей немного достоинства, немного сдержанности, немного умения себя вести, ну пожалуйста! Да-да, сдержанности, чтобы ему казалось, что он меня завоевывает, чтобы он волновался, чтобы победа не падала ему в руки сама собой! Дева Мария, ну пожалуйста, я хочу зажечь пожар в его душе! Она остановилась, сморщила нос, послушала свои слова в нотной записи, послушала еще, нотку сюда, еще другую нотку, получилось как «Господи, помилуй» в «маленькой торжественной мессе Россини! Пианино наступает, оно летит, словно на коне, и чувства вскипают, вскипают сильнее, она уже готова взорваться!
Маленькая торжественная месса была внезапно прервана телефонным звонком. Калипсо сморщилась, ей не хотелось подходить, но звонок был настойчив, она протянула руку, сказала «алло». Такое строгое «алло», чтобы держать нарушителя ее покоя на расстоянии, внезапно выпрямилось. «Ох, abuelo[17], abuelo, это ты?» У него были потрясающие успехи, он уже разговаривал, пока не очень быстро, и спотыкался на некоторых словах, но тем не менее мог выразить свою мысль, и она его понимала. Она хотела рассказать ему все, хотела рассказать весь волшебный свет, все пространство и солнце, и чудо. «Abuelo, он поцеловал меня, поцеловал, Гэри, Гэри Уорд, смотри, я когда говорю Гэри, я к нему приближаюсь, а он приближается ко мне, и я предупредила его, что это серьезно, что это для меня очень-очень важно!» И она рассказала ему все это, потому что, если не рассказать, все сотрется, все исчезнет, и, кстати, может, ей вообще все приснилось. Нет, ох нет, ей все это не приснилось!