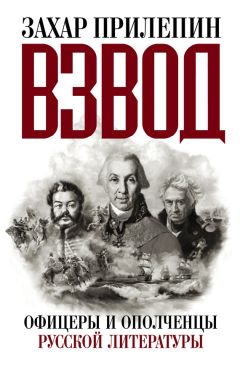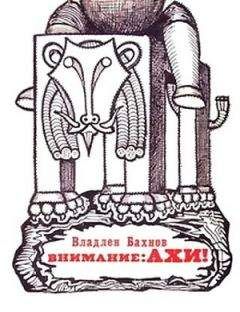Ознакомительная версия.
Знаете, мы ленимся оспаривать; мы скажем так: Адамович пошутил.
То, что оборвалось у Адамовича, – пусть он и подшивал бы; говорить об этом нет смысла – потому что пока есть русское слово и дети рождаются на земле наших предков, никакие связи не оборвутся. Одна ниточка, но останется, и всё выдержит.
Ниточка – или строчка из русского поэта, который эту связь сохранил.
* * *
Как ни парадоксально, но удачная реинкарнация Золотого века имела место в тридцатые годы XX века.
Ещё молодой Николай Тихонов, молодой Владимир Луговской, громокипящие ИФЛИ и Литературный институт, стоящие в очереди, чтоб попасть на очередную, после Давыдова, Батюшкова и Боратынского русско-финскую и русско-польскую. Гусарское поведение тех лет, характерное для Симонова, Долматовского, Слуцкого, Павла Когана, Михаила Луконина, культ дружеских посланий, культ воинской дружбы, культ мужества и победы, – всё это вдруг явилось тогда, подарив нам несколько поэтических шедевров, которые ещё придётся перечесть.
Стоит обратить внимание на безусловный «гусарский» дух первых военных романов Юрия Бондарева, где главным героем является, как правило, взрослеющий в тридцатые годы молодой повеса, влюблённый в поэзию Золотого века, ежеминутно готовый к дуэльной схватке, остроумный и озорной – вместе с тем, неожиданно чётко соблюдающий законы чести и проявляющий человеческое бесстрашие в бою.
Новое, уже XX века «шестидесятничество» наследовало гусарским традициям только внешне; скоро выяснилось, что вообще эти ребята в разноцветных пиджаках – они про другое, противоположное. По их части: с пьяных глаз бесстрашно звонить по прямому телефону генсеку в случае появления российских войск где-нибудь в Праге, требуя их вывода, и тут же оголтело рифмовать свои патетичные мысли, задыхаясь от ощущения своей правоты.
В сущности, перед нами были те же «шестидесятники», что веком раньше дерзили старику Вяземскому и кривили лица от одного имени Дениса Давыдова.
Булат Окуджава и его собратья, клявшиеся Золотым веком, брали за основу вещи чаще всего второстепенные.
Золотой век стоял на том, что Россия будет не просто говорить с Европой на равных, но и время от времени навязывать ей свою волю. Новейшие «шестидесятники» все эти позиции, размахивая сорванными флагами, сдали.
Так едва восстановленная связь времён снова надорвалась.
Быть может, путь Петра Вяземского мог воспроизвести в XX веке Борис Слуцкий: от очарованности имперским гусарством и личного участия в трудах и забавах военных – к либеральной фронде, а затем – жесточайшему разочарованию и душевной болезни. Но если б Слуцкий, выздоровев, прожил на десять лет больше, повторив рисунок судьбы Вяземского, вполне можно было б ожидать его сдвига вправо, какой был совершён отчасти Бродским, а следом – Евгением Рейном.
Но это лишь предполагаемые варианты личных дорог, оставшиеся вне, с позволения сказать, мейнстрима.
Поэтическая традиция второй половины XX века замкнулась если не целиком, то по большей части на Серебряный век: с одной стороны – «ахматовские сироты», с другой – «почвенники», навек заплутавшие меж есенинских берёзок.
Нежданная и восхитительная удача поэта Бориса Рыжего объяснялась тем, что он интуитивно миновал Серебряный век вообще – там и так все кормились, – следом он игнорировал «шестидесятников», – и, наконец, взял за основу Золотой век и его реинкарнацию в тридцатых. То есть поженил поэзию Давыдова, Полежаева и Вяземского, а также Ауговского и того же Слуцкого, – с окраиной своего родного Екатеринбурга.
И выяснилось, что идеологически и мелодически Золотой век оказался и умней, и современней Серебряного.
Так Рыжий выиграл звание первого поэта. Потому что до понятого им, по большому счёту, в его поколении не додумался никто.
Весьма поэт, изрядный критик, картёжник, дуэлянт,
политик, тебе я отвечаю вновь: пожары вычурной Варшавы,
низкопоклонной шляхты кровь – сперва СИМВО́ЛЫ НАШЕЙ
СЛАВЫ,
потом – убитая любовь, униженные генералы и осквернённые
подвалы:
где пили шляхтичи вино, там ссали русские капралы!
Хотелось бы помягче, но, увы, не о любви кино.
О славе!
Это – Рыжий.
СИМВО́ЛЫ НАШЕЙ СЛАВЫ – заглавными Рыжий набирал для самых слепых. «Хотелось бы помягче, но…»
В этих стихах мы, конечно, видим ироническое понижение, но не настолько ироническое, как многим хотелось бы.
Феномен Рыжего в том, что он был – хоть и не по крови, но по сути своей – аристократом, а явил себя – как поэт народный, низовой, окраинный (у нас почти вся страна – окраина), принёсший нам всем оправдание.
А его собратья по ремеслу, поколением старше или поколением моложе, сплошь и рядом бывшие разночинной чернью, – навязчиво выдавали себя за аристократию духа. И при этом перо макали в дёготь, а то и во что-то вовсе непотребное, и несли нам всем свою желчную укоризну.
Рыжий ни с одним символом нашей славы счёты не сводил, но смотрел на эти си́мволы и симво́лы удивлённо и предслёзно. Государство и народ он ни разу друг другу не противопоставил.
По тем временам это было невероятное достижение; и мы догадываемся, кто его этим вещам научил: например, герои книги, которую вы держите в руках.
Дорожку Рыжий угадал отличную: через серебряные головы – ив дамки.
Даже не умея вынести заявленную задачу на своих плечах, Рыжий наверняка знал сам и другим напомнил: истинная русская поэзия и русская проза – не только ирония, горечь, разочарование, – это ещё и вера, порох, огнь. Это – золото.
…Хотя не один он, конечно, об этом догадался в своём времени. Просто Рыжий – слишком яркая и наглядная история.
Если же сделать мгновенный снимок сверху, то можно увидеть вот что.
Достигая поэтической зрелости, всё чаще искали ответов уже не в Серебряном веке – с некоторой даже нарочитостью обрывая с ним связи, – а в Золотом, такие разные поэты, как Юрий Кузнецов или Станислав Куняев с одной стороны, и Александр Кушнер или Юрий Кублановский, с другой.
О ситуативном и в самом широком смысле внешнем сходстве Александра Семёновича Шишкова и Александра Андреевича Проханова – писателя и автора воззваний к народу, целую жизнь кочевавшего с войны на войну, – мы уже упоминали.
Что бы сам Эдуард Лимонов ни говорил по поводу Золотого века, в его судьбе – и военной, и поэтической, и политической – странным образом с каждым годом куда больше, чем
Че Гевара или Чарльз Буковски, отражаются то Пётр Чаадаев (с его «русским психо»), то Павел Катенин (с его русофильством, замешанным на европейской культурной подкладке, с его злобным критицизмом и чудачествами), то Бестужев-Марлинский (один из первых русских литераторов, осмысленно занимавшийся «героическим жизнестроительством»).
Толстовской традиции наследует прекрасный писатель и «афганец» Олег Ермаков.
«Модернизированные» гусарские традиции на очередном витке явлены сегодня в поэзии и поведенческой модели бесстрашного военкора донбасской и сирийской войн, товарища и собутыльника всех легендарных полевых командиров Семёна Пегова.
…Но об этих примерах мы поговорим в следующий раз.
То, что список невелик, пугать нас не должно: «Взвод» часто бывает в меньшинстве.
Мал он ещё и по той, главной на сегодняшний момент причине, что новоявленная аристократия больше не воюет и о войне не пишет – ведь она выше этого.
Народ, вместо аристократии, сам сочиняет себе военные песни; и получается у него хуже – его никто этому, увы, не учил.
Новую аристократию придётся создавать по другим принципам: мы в плену у самозванцев.
* * *
Высокое воинственное и вместе с тем религиозное чувство явлено русским словом.
Это чувство не столько атакующее, сколько жертвенное.
Но чтоб нас заполучить в качестве жертвы, вам придётся обломать все когти.
Здесь была когда-то выращена порода поэтов, которая умела пользоваться порохом; и забыть их уроки нам не удастся.
Они были не просто великими литераторами и воинами.
Именно эти поэты стояли защитой всех униженных, малых, слабых.
Когда победительно и неумолимо пришли этой породе на смену лукавцы, презирающие всякую военную брань и самый вид оружия, одновременно – вот парадокс! – литература наша стала характеризоваться презрением к маленькому человеку, особенно, конечно, к маленькому русскому человеку, как к наиболее маленькому и неказистому человеку в мире, к его «рабскому сознанию», или даже бессознанию, но тоже рабскому.
Непрестанное стремление развенчать русскую историю как таковую, выставив её каруселью варварства и воровства, – вот что стало одной из основных задач литературы; и делалось это как бы ради блага маленького человека, хотя он об этом никого не просил.
Само слово «Отечество» выпало из литературного обихода; ирония и сарказм подменили элементарные человеческие понятия: долга, чести, почитания отеческих гробов. Патернализм стал синонимом конформизма и душевной низости.
Ознакомительная версия.