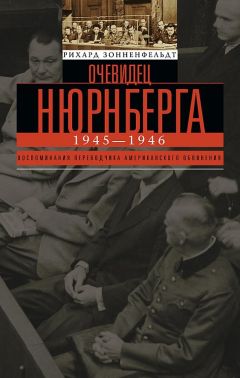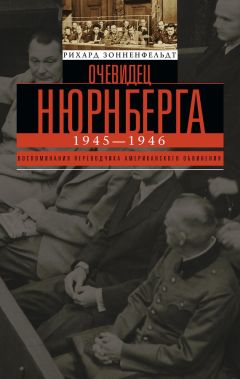Лилиан Кларк и Мириам Лил, наши хозяйки, жили на Гернси в собственном доме и спали в одной спальне. Они были близки по духу и все делали вместе. Лилиан работала, а у Мириам были независимые средства. Она водила «вулси» с откидным верхом и фантастической ярко-белой эмблемой на решетке радиатора. Мириам объездила с нами весь Гернси, где было полно парников для помидоров. В самом начале, несмотря на наши протесты, Мириам дала нам по пять фунтов, «чтобы вы не дергали меня, если вам что-нибудь понадобится».
У себя в спальне я нашел книгу Хэвлока Эллиса, но ничего не сказал своим хозяйкам, и они сами об этом не говорили. Мы с Фрицем даже не знали, что такие книги существуют. Дома я только листал отцовские книги, пока не было родителей, чтобы разобраться в женской анатомии. Но эта книга была совершенно другая — о сексе и о том, как получать от него удовольствие! Мы с Фрицем спорили, чья очередь ее читать.
Постепенно до меня дошло, что Мириам и Лилиан — не просто подруги. В то время я знал их обеих как прелестных женщин, довольно непохожих друг на друга, которые нас чудесно принимали и везде водили. Поэтому открытие меня не шокировало, как могло бы, если бы Мириам и Лилиан сразу представили мне как лесбиянок.
Проведя на Гернси несколько дней, мы все отправились на маленьком пароходе на остров Сарк, абсолютную монархию во главе с Дамой Сарка. На Сарке (или Sarque, как значилось на его деньгах) были запрещены автомобили, и на острове не было ни электричества, ни водопровода. К нам присоединились еще три женщины. Мы отлично провели время, гуляя, переходя речки вброд, ловя раков и наблюдая, как на берег накатывают огромные трехметровые приливы. В отлив нам приходилось остерегаться гигантских волн, которые поднимались перед началом прилива. Один раз я чуть не попался; это было очень страшно, но мне удалось благополучно вернуться на берег в последний момент. По вечерам при свете свечи мы читали пьесы и играли в игры, например шарады и тайны. Я научился играть в вист и бридж. Ах, вот такие были удовольствия в прошедшем веке! Нам было так здорово, и никто даже не думал, как это странно для 1939 года (во всяком случае, насколько мы знали), что шесть женщин-лесбиянок и двое мальчишек составили компанию в каникулы. Мы с Фрицем вернулись в школу с самыми приятными воспоминаниями.
Я получил даже еще больше удовольствия в конце следующего триместра, когда меня снова пригласили на Гернси. Это было вскоре после Мюнхена, когда Чемберлен обещал «мир в наше время», в то время как Гитлер уже решил начать ничем не спровоцированную войну, хотя, конечно, мы об этом не знали. Фриц, с которым мы ездили в прошлый раз, в июле поехал домой, навестить свою семью в Чехословакии, а я вернулся на Гернси.
На этот раз там был летний лагерь для детей лондонской бедноты под руководством преподобного Джимми Баттерворта — заводила, любитель музыки и проповедник в одном миниатюрном взрывпакете. Мириам Лил, которая финансово поддерживала его, отвезла меня в лагерь на танцы. Тамошние дети не были похожи на англичан, с которыми я общался. Девушки были очень общительные, а мальчики — агрессивные. Это были кокни из лондонских трущоб, дети, чьи отцы и матери сидели в тюрьмах за воровство, или, что того хуже, дети, которых выгнали из школы или отправили в исправительные заведения. Преподобный Баттерворт предложил им свежий воздух, танцы и молитвы, и они использовали возможности по максимуму. Если бы я был не такой застенчивый, то мог бы завести там много друзей. Я стоял, трепеща, пока они выделывали пируэты друг с другом. Никто не обращал на меня внимания, пока одна рыжеволосая девушка со смешным курносым носом и прыгающей грудью не пригласила меня на танец. Танцевать я не умел, но мне очень понравилось. Она прижималась ко мне, как раньше не делала ни одна девушка, и это было здорово. В конце концов она поцеловала меня на прощание и сказала: «Пока, Гансик. Возвращайся ко мне». Эх, мой немецкий акцент еще чувствовался!
В школе я решил работать над своим акцентом и словарным запасом, который быстро расширялся, потому что Норман Вормлейтон, наш учитель английского, заставлял нас учить наизусть по нескольку страниц из Нового оксфордского краткого словаря каждый день. Но судьбоносный поворот был уже не за горами.
Я вернулся с Гернси всего за две недели до начала войны в Европе и получил известие, что моим родителям наконец-то дали британскую визу. В школе меня ждало письмо от них с вопросом, как, по моему мнению, им следует поступить. Они спрашивали меня? Да, меня! В тот раз я впервые испытал ту отстраненность, которая находит на меня, когда я должен принять важное решение.
Несколько десятков лет спустя я нашел копию письма, которое отослал им в Швецию. Там были такие слова: «Не уезжайте из нейтральной страны. По-моему, через несколько недель мы вступим в войну. Если вы приедете в Англию, мы все тут застрянем. Если вы останетесь в нейтральной Швеции, то у вас будет шанс получить визу и поехать в Америку на шведском корабле, а мы с Хельмутом приедем к вам потом. Оставайтесь на месте, пока не сможете поехать в Америку».
Через три дня после того, как я написал это письмо, 3 сентября 1939 года, Британия вступила в войну с Германией. В то воскресное утро мы смотрели, как британские самолеты эскадрилья за эскадрильей низко летели над Кентом во Францию. Нам выдали противогазы и даже несколько касок для уполномоченных по гражданской обороне. Меня назначили таким уполномоченным. У меня чесались руки сделать что-нибудь, чтобы помочь Англии в войне, я предложил построить бомбоубежище. Этот план был отличным способом дать выход юношеской энергии, хотя и довольно глупым, потому что в радиусе нескольких километров от нашей школы не было ничего такого, что немцы прилетели бы бомбить. И, насколько я знаю, ни одна бомба не упала где-либо поблизости от того заросшего травой поля, где мы отчаянно вкапывались в землю, чтобы у большинства учеников и работников школы были убежища. Чтобы сделать крыши для наших землянок, мы свалили несколько деревьев и распилили их на части. Потом мы покрыли крыши дерном толщиной несколько сантиметров, что сделало наши убежища незаметными с воздуха. Увы, после первого же дождя наши бункеры залило водой, и мы поняли, что утонуть ничуть не лучше, чем погибнуть от бомбежки.
Война коснулась нас сразу же. Несколько одноклассников так и не вернулось после того, как уехали к родителям в места, занятые нацистами, и только Бог знает, что с ними сталось. Среди пропавших был и Фриц Фойерман, с которым мы ездили на Гернси, и польский мальчик Гуннар, чьи школьные подружки горевали о нем. Эти ученики исчезли без следа.
В первые дни войны мы не задумывались, как в ней можно победить. То, что Франция и Англия наконец-то поднялись против Гитлера, была хорошая новость, даже после того, как всего за несколько дней пала Польша. Кроме этого была только уверенность, что Англия еще не проигрывала войн, не считая войны с Америкой, и все инстинктивно смотрели на эту великую демократическую страну по ту сторону Атлантики как на друга.
После первых волнующих дней сентября жизнь в школе продолжалась как обычно, за исключением одного. Нам запретили звонить в колокол, который управлял жизнью школы, потому что звон был тревожным сигналом в случае вторжения или высадки десанта. Чтобы заменить наш большой школьный колокол, я предложил провести электрические звонки, нетрадиционным образом использовав уже имеющуюся у нас проводку. Эта система отлично заработала, и у себя в комнатке я поместил кнопку, по нажатию которой раздавался звонок.
В 1939 году я был старшеклассником, учеником пятого класса, и должен был получить кембриджский сертификат о среднем образовании после британского госэкзамена, который, в случае успешной сдачи, давал ученику право поступить в университет. Для экзамена по английской литературе мы готовили такие книги, как «Возвращение дикаря» Харди, «Едгин» Батлера и «Грозовой перевал» Эмили Бронте, и от нас требовалось написать короткие сочинения или ответить на вопросы по этим книгам. Мы должны были уметь определить персонажа, акт и сцену по любому двустишию из шекспировского «Юлия Цезаря», а также по памяти написать главные фрагменты, например: «Не восхвалять я Цезаря пришел, но хоронить.»
С языками было просто, потому что я знал немецкий, и мой французский был вполне сносный. Над английским я все еще работал. Для истории требовалось запомнить даты, имена, места и события, а у меня была хорошая память. Сложные науки и математика давались мне легко.
Я был уверен, что сдам государственный экзамен. И что тогда? Теперь я понимаю, что даже не задумывался об этом. В то неопределенное время я не планировал будущее.
В ноябре 1939 года родители в Швеции получили визу, позволившую им ехать в Соединенные Штаты. Пути из нацистской Европы через Атлантику теперь блокировал британский флот, но вдруг американцы открыли иммиграционную квоту для тех совсем немногих евреев, которые еще могли добраться до США на судах нейтральных стран. Мой августовский совет родителям дожидаться визы в Швеции оказался правильным. Отец и мать пересекли кишащий подводными лодками Атлантический океан на шведском пассажирском лайнере, который, будучи судном нейтральной страны, прошел через британскую блокаду, и высадились в Нью-Йорке в ноябре того же 1939 года. Там они планировали получить лицензии на занятие медициной, надеясь когда-нибудь снова соединиться со своими детьми. Однако это воссоединение оказалось невозможным. Мы с Хельмутом не могли отплыть из Англии из-за подводной войны.