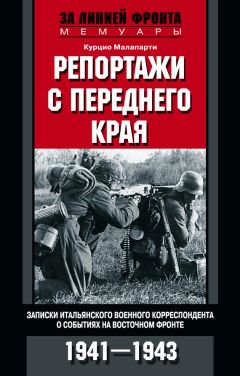– Et vous ne l’avez jamais plus recontrée?[315] – спросила княгиня фон Т*.
– Лишь однажды спустя какое-то время. Я гулял в роще за моим домом, когда встретил ее на тропинке. Я заметил ей, что она могла бы обойтись без прогулок по моей роще, если не хочет видеть меня. Она странно взглянула и сказала, что хотела поговорить со мной. «Что же вы хотели сказать мне?» – спросил я. У нее был печальный и пристыженный вид: «Ничего, могу только сказать, что если бы захотела, то могла бы погубить вас». Она протянула мне руку: «Останемся добрыми друзьями, хотите?» «Мы никогда не были добрыми друзьями», – ответил я. Эдда молча удалилась. Уходя, она обернулась и улыбнулась мне. Это сильно взволновало меня. С того дня мне глубоко жаль ее. Должен признаться, что у меня по отношению к ней суеверное чувство. Она похожа на Ставрогина.
– Похожа на Ставрогина, говорите? – переспросила княгиня фон Т*. – А почему вы думаете, что на Ставрогина?
– Elle aime la mort[316], – ответил я, – у нее очень странное лицо: в определенные дни на нем маска убийцы, а в другие дни – маска самоубийцы. Я бы не удивился, если бы однажды мне сообщили, что она кого-то убила или покончила жизнь самоубийством.
– Oui, elle aime la mort[317], – сказал Дорберг, – на Капри она часто выходит ночью одна, взбирается на вершину скалы над морем, балансируя, ходит по гребню отвесных круч. Однажды ночью крестьяне видели ее на стене над пропастью Тиберия, она сидела, свесив ноги в пустоту. Она высовывается с вершины Мильяры над провалом глубиной в пятьсот метров, как с балкона. Однажды ночью во время грозы я своими глазами видел ее шагающей по крыше Чертозы и перескакивающей с одного купола на другой, как завороженная кошка. Да, она любит смерть.
– Est-ce qu’il suffit d’aimer la mort, – сказала графиня фон В*, – pour devenir un assassin ou pour se suicider?[318]
– Достаточно любить смерть, – ответил я, – а это и есть тайная мораль Ставрогина, таинственный смысл его страшного признания. Муссолини знает, что его дочь из породы Ставрогиных, и боится этого, он приказывает наблюдать за ней, желает знать о каждом ее шаге, каждом слове, каждой мысли, каждом пороке. Он дошел до того, что бросает ее в объятия человека из полиции, чтобы мочь, хоть и чужими глазами, шпионить за дочерью в моменты ее отрешения. Что он хотел бы вытянуть из нее, так это признание Ставрогина. Его единственный враг, его истинный соперник – его дочь. Она же его тайная совесть. Вся черная кровь Муссолини не в венах отца, а в жилах дочери. Если бы Муссолини был законным королем, а Эдда принцессой-наследницей, ему пришлось бы убрать ее, чтобы чувствовать себя уверенно на троне. В сущности, Муссолини счастлив, что его дочь ведет беспорядочный образ жизни, доволен всем злом, что ее подстерегает. Он может спокойно править. Но может ли он спокойно спать? Эдда неутолима, она изводит себя по ночам. Однажды между отцом и дочерью случится кровь.
– Voilà une histoire bien romanesque, – сказала княгиня фон Т*. – Еst-ce que ce n’est pas celle d’Œdipe?[319]
– Да, возможно, – сказал я, – в том смысле, что тень Эдипа есть и в Ставрогине.
– Я думаю, вы правы, – согласился Дорнберг, – достаточно любить смерть. Одного врача из немецкого военного госпиталя в Анакапри вызвали однажды в отель «Квизизана» для осмотра графини Чиано, которую терзали сильные и постоянные головные боли. Таким образом ему довелось впервые увидеть ее вблизи. Капитан Кифер – хороший немецкий врач, он умеет видеть вглубь и знает, что природа болезней таинственна. Он вышел из комнаты графини Чиано очень взволнованным. А потом рассказал, что заметил на ее виске белое пятно, очень похожее на шрам от выстрела. И добавил, что, без сомнения, это шрам от пистолетного выстрела, которым однажды она поразит себя в висок.
– Еще одна романтическая история! – воскликнула княгиня фон Т*. – J’avoue que cette femme commence à me passionner. Vous croyez vraiment qu’elle se tuera, à trente ans?[320]
– Не беспокойтесь, она застрелится в семьдесят, – неожиданно сказала Джузеппина фон Штум.
Все удивленно посмотрели на нее и рассмеялись. Я молча разглядывал эту женщину, она была очень бледна и улыбалась.
– Elle n’est pas de la race des papillons[321], – сказала Джузеппина фон Штум с презрением в голосе.
После этих слов на несколько секунд установилось неодобрительное молчание.
– В последний раз, когда я возвращалась из Италии в Америку, – сказала наконец Вирджиния Казарди с американским акцентом, – я взяла с собой итальянскую бабочку.
– Un papillon? Quelle idée![322] – воскликнула Агата Ратибор, она казалась раздраженной, почти обиженной.
– Римскую бабочку с Аппиевой дороги, – сказала Вирджиния.
Бабочка села в тот вечер ей на волосы, когда она ужинала с друзьями в остерии со странным названием, в остерии рядом с могилой Цецилии Метеллы.
– Что же за странное название было у той остерии? – спросил Дорнберг.
– Она называлась «Здесь никогда не умирают», – ответила Вирджиния. Джузеппина фон Штум рассмеялась, пристально посмотрела на меня, тихо сказала: «Какой ужас!» – и прикрыла рот рукой.
– Эта римская бабочка была не похожа на других, – сказала Вирджиния. Она доставила бабочку в картонной коробке в Берлин и выпустила ее на свободу в своей спальне. Бабочка принялась летать по комнате, потом села на блестящее зеркало, где оставалась неподвижной несколько дней, изредка слабо пошевеливая робкими, деликатными голубыми усиками.
– Il se regardait dans le miroir[323], – сказала Вирджиния.
Через несколько дней утром она нашла ее на зеркале мертвой.
– Il s’était noyé dans le miroir[324], – сказала баронесса Эдельштам.
– Это легенда о Нарциссе, – сказала маркиза Теодоли.
– Vous croyez que le papillon s’est noyé?[325] – спросила Вероника.
– Les papillons aiment mourir[326], – тихо сказала Джузеппина фон Штум.
Все рассмеялись. Раздраженный глупым смехом, я посмотрел на Джузеппину.
– C’est sa propre image qui l’a tué, sa propre image refétée dans le miroir[327], – сказала графиня Эмо.
– Je crois que c’est même son image qui est morte la première, – сказала Вирджиния, – c’est toujours comme ça que se passent ces choses[328].
– Ее изображение осталось отраженным в зеркале, – сказала баронесса Эдельштам. – Бабочка не умерла, она отлетела прочь.
– Papillon. C’est un joli nom: papillon[329], – сказал Альфиери. – Вы заметили, что слово «бабочка» во французском языке мужского рода, а в итальянском – женского? On est très galant avec les femmes, en Italie[330].
– Vous voulez dire avec les papillons[331], – сказала княгиня фон Т*.
– В немецком тоже, – сказал Дорнберг, – слово «бабочка» – мужского рода: der Schmetterling. У нас в Германии тенденция к прославлению мужского рода.
– Der Krieg, «война», – сказала маркиза Теодоли.
– Der Tod, «смерть», – сказала Вирджиния Казарди.
– В греческом «смерть» тоже мужского рода: бог Танатос, – сказал Дорнберг.
– Но в немецком «солнце» – женского рода: die Sonne, – заметил я. – Нельзя понять историю немецкого народа, если не иметь постоянно в виду, что это история народа, у которого «солнце» – женского рода.
– Hélas! Vous avez peut-être raison[332], – сказал Дорнберг.
– En quoi Malaparte a-t-il raison?[333] – сказала с иронией Агата. – Слово «луна» в немецком языке мужского рода: der Mond. Это тоже очень важно для понимания истории немецкого народа.
– Конечно, – сказал Дорнберг, – это тоже очень важно.
– Все, что есть таинственного в немцах, – сказал я, – все, что в них есть болезненного, происходит от женского рода слова «солнце»: die Sonne.
– Oui, nous sommes malheureusement un peuple très féminin[334], – сказал Дорнберг.
– Кстати, о бабочках, – сказал Альфиери, обращаясь ко мне, – не вы ли написали в одной из ваших книг, что Гитлер – бабочка?
– Нет, – ответил я, – я написал, что Гитлер – женщина.
Все удивленно и в некотором замешательстве переглянулись.
– Действительно, – сказал Альфиери, – мне показалось абсурдным сравнивать Гитлера с бабочкой.
Все рассмеялись, а Вирджиния сказала:
– Il ne me viendrait jamais l’idée de mettre Hitler à sécher, comme un papillon, entre les pages de Mein Kampf. Ce serait vraiment bizarre[335].
– Такая мысль могла прийти в голову лишь монастырской воспитаннице, – сказал Дорнберг, улыбаясь в короткую бородку фавна.
Было время Verdunkel, затемнения, и, чтобы не отказываться от вида заледеневшего, сверкающего под луной озера, Альфиери не стал опускать занавеси и закрывать окна, а потушил все свечи. Призрачное отражение луны тихонько вошло в комнату и разлилось по хрусталю, фарфору и серебру, как далекая мелодия. Мы остались в тишине и серебристой полутьме, предоставленные своим мыслям; слуги бесшумно двигались вокруг стола в лунном свете, в прустовском свете, казавшемся отраженным «от моря почти створоженного, сизоватого, как молочная сыворотка»[336]. Была ясная, без дуновения ветерка ночь, деревья торчали неподвижно против бледного неба, снег отблескивал голубым.
Мы долго молча сидели и смотрели на озеро. В самой тишине был тот же горделивый страх, та же тоска, что я заметил в смехе и голосах молодых немецких дам.
– C’est trop beau, – вдруг сказала Вероника, резко вставая. – Je n’aime pas être triste[337].