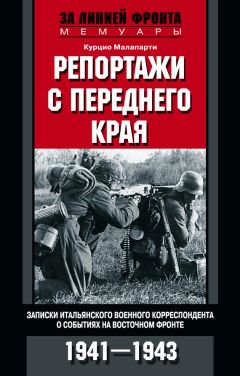– Сюзанна.
По лестнице спускалась худая бледная девушка с распушенными по плечам волосами, она держала в руке зажженную свечу, завернутую в желтую бумагу. Она была в шлепанцах, на руке висело полотенце; придерживая полу красного, похожего на тунику платья, перетянутого поясом на талии, она остановилась посреди лестницы, внимательно посмотрела на меня, наморщила лоб, как если бы мое присутствие было ей неприятно, потом обвела всех уже не таким недовольным, но все же подозрительным взглядом, посмотрела на граммофон, на напрасно крутящуюся с легким шорохом пластинку, оглядела нетронутые бокалы, выстроенные в ряд бутылки и, зевнув, сказала чуть хрипловатым голосом, прозвучавшим жестко и неприветливо:
– Пошли спать, Сюзанна, уже поздно.
Девушка, которую пришедшая назвала Сюзанной, рассмеялась, посмотрела на подругу с несколько насмешливым видом:
– Ты устала, Люба? А что ты делала, что так устала?
Люба не ответила, она села на диван напротив и, зевая, стала рассматривать мою форму. Потом спросила меня:
– Ты не немец. Кто ты?
– Итальянец.
– Итальянец?
Девушки смотрели на меня с вежливым любопытством. Читавшая закрыла книгу и остановила на мне усталый, отсутствующий взгляд.
– Красивая страна Италия, – сказала Сюзанна.
– Я предпочел бы, чтобы она была некрасивой, – сказал я, – красота, если только это одна красота, – ни к чему.
– Я хотела бы поехать в Италию, – сказала Сюзанна, – в Венецию. Хотелось бы пожить в Венеции.
– В Венеции? – удивилась Люба и рассмеялась.
– А ты поехала бы со мной в Италию? – спросила Сюзанна. – Я никогда не видела гондолу.
– Если бы я не была влюблена, – ответила Люба, – то поехала бы хоть сейчас.
Ее подруги рассмеялись, одна сказала:
– Мы ведь все влюблены.
Все опять рассмеялись и странно посмотрели на меня.
– Nous avons beaucoup d’amants[342], – сказала Сюзанна по-французски с мягким акцентом румынских евреев.
– Ils ne nous laisseraient pas partir pour l’Italie, – сказала Люба, зажигая сигарету, – Ils sont tellement jaloux![343]
Я рассматривал ее удлиненное узкое лицо, маленький, как у ребенка, рот с тонкими губами, массивный восковой нос с красноватыми ноздрями. Она курила, поднимая взгляд к потолку и выдыхая дым с заученным безразличием, в ее светлом взгляде была покорность и вместе с тем отчаяние.
Девушка с книгой на коленях встала и, держа обеими руками книгу, сказала:
– Noapte buna.
– Noapte buna, – ответил я.
– Noapte buna, dòmnule capitan, – повторила девушка и с робким изяществом, несколько неловко поклонилась мне. Она повернулась и направилась к лестнице.
– Дать тебе свечу, Зоя? – спросила Люба, провожая ее взглядом.
– Спасибо, я не боюсь темноты, – ответила Зоя, не обернувшись.
– Tu vas rêver de moi?[344] – крикнула Сюзанна.
– Bien sûr! Je vais dormir à Venise![345] – сказала Зоя и исчезла за дверью.
На несколько секунд мы остались в тишине. Далекий рокот грузовика мягко бился в оконное стекло.
– Vous aimez les Alemmands?[346] – вдруг спросила Сюзанна.
– Pourquoi pas?[347] – ответил я несколько настороженно, что не осталось незамеченным.
– Ils sont gentils, n’est-ce pas?[348]
– Il y en a qui sont très gentils[349].
Сюзанна окинула меня долгим взглядом и с непередаваемым выражением ненависти сказала:
– Ils sont très aimables avec les femmes[350].
– Ne la croyez pas, au fond, elle les aime bien[351], – сказала Люба.
Сюзанна рассмеялась и странно посмотрела на меня. Ее глаза побелели и расширились, готовые вылезти из орбит.
– Elle a peut-être quelque raison de les aimer[352], – сказал я.
– О да, – сказала Сюзанна, – они – моя последняя любовь.
Ее глаза наполнились слезами, но она улыбалась. Я ласково погладил ее руку, Сюзанна склонила голову на грудь, слезы заливали ее лицо.
– Не плачь, – сказала хрипло Люба, отбросив сигарету, – у нас еще два дня чудесной жизни. Это ведь немало, как ты думаешь? Разве нам не хватит?
Она возвысила голос и потрясла руками над головой, как бы прося защиты, потом полным ненависти, презрения и горя, полным страха голосом прокричала:
– Еще два дня, два дня, и нас отправят домой! Всего лишь два дня, а ты плачешь? Плачешь именно теперь? Мы уйдем отсюда, понимаешь?
Она бросилась на диван, спрятала в подушках лицо, задрожала и сквозь зубовный стук тем же испуганным голосом повторила:
– Два дня! Только два дня!
Один тапок соскользнул с голой ноги, ударился о деревянный пол, обнажилась розовая нога в белых шрамах. Маленькая детская нога. Ей пришлось отшагать много миль, неизвестно откуда она пришла, сколько стран ей пришлось пересечь, спасаясь бегством, прежде чем ее взяли и силой определили в этот дом, подумал я.
Сюзанна молчала, опустив лицо на грудь, ее рука оставалась в моих руках. Казалось, она не дышит. Вдруг она тихо спросила, не глядя на меня:
– Вы думаете, они отправят нас домой?
– Они не могут заставить вас оставаться здесь всю жизнь.
– Каждые двадцать дней они меняют девушек, – сказала Сюзанна, – вот уже восемнадцать дней, как мы здесь. Еще два дня, и нас сменят. Нас уже предупредили. Как вы думаете, они действительно отпустят нас домой? Я чувствовал, что она чего-то боится, но не мог понять чего. Потом девушка рассказала, как учила французский в школе в Кишиневе, ее отец был коммерсантом в городе Бельцы, а вот Люба – дочь врача, другие ее подруги тоже студентки. Люба училась музыке, играла на фортепиано как ангел, могла бы стать знаменитой пианисткой.
– Когда она уедет отсюда, то сможет снова взяться за учебу, – сказал я.
– Кто знает? После всего, что здесь случилось. И потом, неизвестно, куда нас отправят.
Люба подняла голову, ее лицо сжалось, как сжимается кулак, только глаза странно сверкали на восковом лице. Она дрожала как в лихорадке.
– Да, я обязательно стану известной пианисткой, – сказала девушка.
Она рассмеялась и стала рыться в карманах халата в поисках сигарет. Потом встала, подошла к столу, открыла бутылку пива, наполнила три стакана и подала нам на деревянном подносе. Ее шаг был легким и бесшумным.
– Хочется пить, – сказала Люба, жадно выпила и закрыла глаза.
Стояла удушающая жара, в едва прикрытые окна входило густое дыхание летней ночи. Люба шагала по комнате босиком с пустым стаканом в руке, глядя неподвижным взглядом прямо перед собой. Другая ее подруга, не произнесшая до этого ни слова, будто не слушавшая разговора и не понимавшая, что происходит вокруг, тем временем заснула, отклонившись на спинку дивана в своем жалком заштопанном платье, одну руку держа на лоне, вторую, сжатую в кулак, – на груди. Со стороны парка время от времени слышался сухой треск выстрелов. С противоположного берега Днестра, со стороны холмов возле Ямполя доносился рокот артиллерии, угасавший в удушающей ночной жаре как в шерстяной кудели. Люба остановилась возле заснувшей подруги и долго молча смотрела на нее. Потом сказала, обратившись к Сюзанне:
– Нужно отнести ее в постель, она устала.
– Мы работали весь день, – сказала Сюзанна как бы извиняясь, – и смертельно устали. Днем мы обслуживаем солдат, а с восьми до одиннадцати приходят офицеры. Ни минуты покоя.
Она говорила отстраненно, как об обыденной работе, не проявляя никакого отвращения. Она встала и помогла Любе поднять подругу; едва поставив ноги на пол, та сразу проснулась и, мыча, как от боли, отрешенная и расслабленная, повисла на руках подруг, которые повели ее к лестнице; скоро стон и шаги погасли за закрытой дверью.
Я остался один. Керосиновая лампа под потолком дымила, я встал отрегулировать пламя, лампа продолжала мигать, заставляя метаться по стенам мою тень и тени от мебели, бутылок и других предметов. Может, лучше было уйти. Я сидел на диване и смотрел на дверь. Я смутно чувствовал, что делаю плохо, оставаясь в том доме. Наверное, мне лучше было уйти, прежде чем вернутся Люба и Сюзанна.
– Я боялась, что уже не застану вас, – сказал за моей спиной голос Сюзанны. Она бесшумно спустилась вниз и медленно двигалась по комнате, приводя в порядок бутылки и стаканы, потом села рядом со мной на диване. Она припудрила лицо и теперь выглядела еще бледнее. Потом спросила меня, долго ли я пробуду в Сороках.
– Не знаю, может, два-три дня, не больше, – сказал я, – мне нужно будет съездить на фронт в Одессу. Но я скоро вернусь.
– Вы думаете, немцам удастся взять Одессу?
– Мне все равно, что делают немцы.
– Хотела бы и я так говорить…
– О! Мне жаль, Сюзанна, простите… – сказал я и после неловкой паузы добавил: – Все то, что делают немцы, – бесполезно: чтобы выиграть эту войну, нужно другое.
– Знаете, кто выиграет войну? Вы думаете, победят немцы, англичане, русские? Войну выиграем мы. Люба, Зоя, Марика, я и все прочие, такие, как мы. Войну выиграют проститутки.
– Замолчите, – сказал я.
– Войну выиграют проститутки! – повторила Сюзанна, почти крича.
Потом беззвучно рассмеялась и дрожащим голосом напуганной девочки спросила:
– Вы думаете, они отправят нас домой?