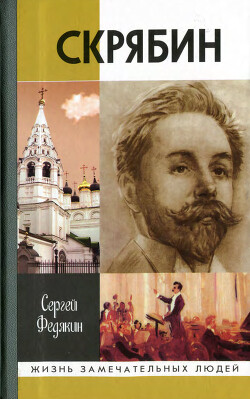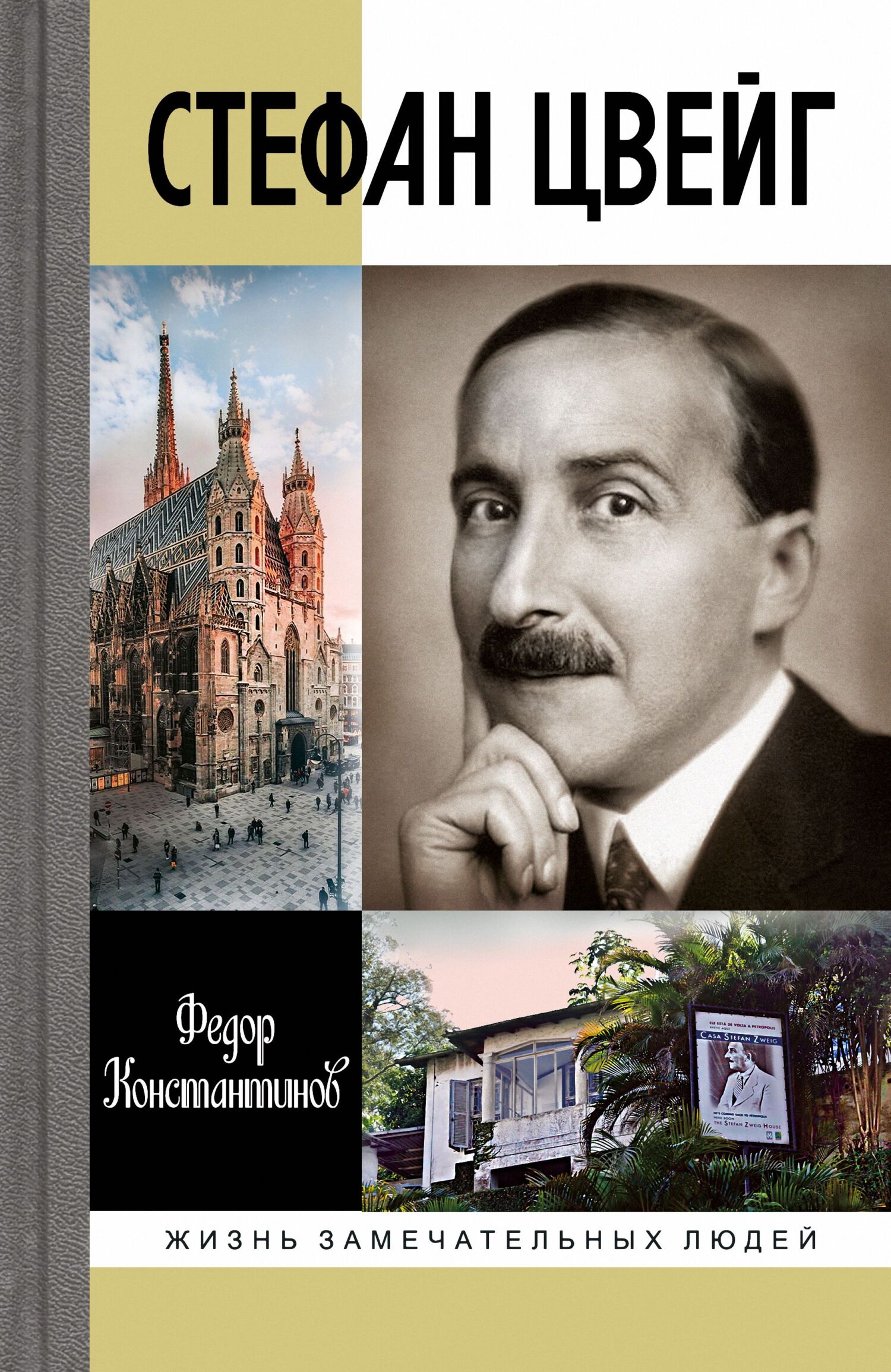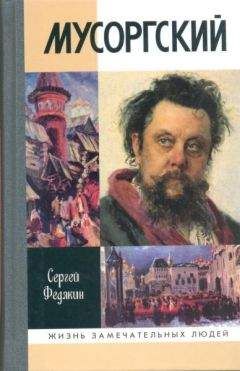Наташа оделась клоуном, Ольга Валерьяновна — Дедом Морозом. Когда на четырехместной карете они подъезжали к месту сбора, к ним вскочила изящная испанка и с ней — еще один забавный клоун. Это были Скрябин и его друг, скрипач Коля Авьерино. Костюм придал Скрябину смелости. В одном из домов, куда направилась веселая компания, они застали мать Наташи. И вот грациозная испанка подсаживается к ней, начинает обмахивать веером…
Возможно, это были последние беззаботные дни в его жизни. На концерте Иосифа Гофмана Наташа восхищалась игрой пианиста, Скрябин темнел лицом.
«Узнав у кого-то, — вспоминает Ольга Валерьяновна об этой маленькой драме, — что Гофман каждый день в два часа катается на коньках у Лазарика, сестра стала просить А. Н. туда прийти на другой же день, в воскресенье. А. Н. поморщился, но, конечно, отказаться не решился. Когда мы пришли к Лазарику в два часа, Скрябина там не было, — в первый раз он нас не встретил. Когда он явился через час, то уже кто-то из учеников Зверева познакомил сестру с Гофманом, и они красиво катались, весело болтая.
Мрачен был Скрябин, как туча, особенно после какой-то похвалы Гофмана frdulein — Наташе».
Гофман был хорош собой, к тому же его ждала карьера блестящего пианиста. Скрябин был дружен с ним, но в себе он чувствовал не только пианиста и даже не просто композитора. «Уже лет в двадцать, — признается он в годы своей известности, — у меня было твердое убеждение, что я сделаю нечто большое. Смешно! Ведь я был тогда дерзкий мальчик, который ни на что не мог бы сослаться, кроме веры в себя».
В 1892 году в издательстве Юргенсона вышел его вальс. В начале 1893-го он передает в издательство еще несколько произведений: этюд, девять мазурок, два ноктюрна. Все они увидят свет в том же году. И хотя, как все начинающие, гонораров он не получит, но внимание эти публикации к автору привлекут. В этих вещах пока много «шопеновского». Но музыка изящна, мелодична. В некоторых мазурках проступает уже творческая дерзость юного композитора. И все же наиболее глубокое сочинение — давно сочиненный медленный этюд из 2-го опуса, тот самый, в котором больше Чайковского, нежели Шопена. За его меланхолической «раздумчивостью» можно расслышать настоящую душевную драму.
Скрябин верил не только в свои силы, но и в свою музыку. Наташа под руку с Гофманом — это было то, что лишало его этой веры. Он видел, как повзрослела и как похорошела его маленькая подруга. Теперь и другие легко поддаются ее прелести, которую он открыл первым. Скрябин мучился. Старался держать себя в руках. На шестнадцатилетие Наташи прислал изящно выполненное музыкальное поздравление. При встрече признался: хотел прислать белые розы, но боялся вызвать неудовольствие ее матери.
Но скоро впервые испытанная ревность отступила перед другим испытанием, куда более жестоким. «Боже мой, какой это мрак! Доктора еще до сих пор не произнесли свой приговор. Никогда еще состояние неопределенности не было для меня таким мученьем. О, если бы можно было смотреть светло в будущее, если бы можно было слепо верить в это будущее!» — это строки из майского письма Наташе, исповедь пианиста, которому грозит катастрофа. Вернулась болезнь руки: болели четвертый и пятый пальцы. Впереди виделось самое страшное — жизнь без возможности творчества. Письмо Наташе полно мрачных предчувствий и юношеских откровений: «Пусть лучше я исчезну в безумном порыве, но мысль останется и будет торжествовать». Когда сестры Секерины встретят его в очередном концерте — увидят совсем непривычного Скрябина: он был нервен, казалось, еще более похудел. А сестры беспечно разговаривали с молодым профессором-физиком, недавно попавшим в круг их знакомств. Наташа слушала его с интересом. Скрябин опять ревновал, нервно потирал руки, не зная, как прервать этот разговор. В такие минуты и мог зазвучать в его душе траурный марш из 1-й сонаты…
В следующий раз он уговорит Секериных идти в зал через артистический вход: здесь неожиданных знакомых они встретить не могли.
* * *
Но вскоре доктор Захарьин его обнадежил: кумыс, тепло, режим, покой. Некогда Скрябин уже проходил «репетицию» такого лечения. Теперь, в 1893-м, нужно было все начать сызнова. На пароходе по дороге в Самару он уже совладал с собой. В письме Наташе — после привычных восторгов — даже пошучивает:
«Знаете, я уже поправился немного во время поездки по Волге, которая оказалась довольно приятной. В первый день я как-то безучастно относился ко всему и почти ничего не видел; но вчера в природе было что-то особенное, неуловимое. На всем была печать какого-то чудного, неведомого настроения. Казалось, что каждая травка, каждый цветок начинает понимать всю важность бытия; все замерло и с благоговейным вниманием прислушивалось к таинственному шепоту божественного вдохновения. Слышалось: созданья, вы одарены жизнью, но не думайте, что мир для вас или что вы для мира. Вас не было, а мир существовал; вас не будет, а мир будет существовать. Не пытайтесь же отделиться от того, чему всецело сами принадлежите, не пытайтесь постигнуть великую тайну бытия или завладеть миром, которым уже владеет мысль. И как ваше тело, которое составляло некогда частицу массы, будет поглощено этой массой, так ваша мысль, ваша душа будет поглощена мыслью творения. Так будет всегда: так земля упадет на солнце, чтобы создалась новая планета, так испарившиеся капли влаги упадут в виде дождя обратно в море, для того чтобы потом опять испариться. Затем природа сама засвидетельствовала истину поведанного миру. Как мысль о преступлении овладевает дотоле безгрешной душой, так черная, свинцовая туча надвигалась и окутывала зловещим мраком землю. Это было величественное, страшное блеском своих огненных стрел и раскатами грома шествие. Между тем на другой половине неба сияло солнце тем же ослепительным блеском. Думалось: к чему этот протест, к чему борьба? И все эти ничтожные, маленькие капли… Скоро пошел дождь и заставил удалиться с палубы в каюту. Тут ожидало нечто совсем другое. Из глубины долетали чарующие звуки вальса «Клико», исполняемого двумя блондинками с чувством, изобличающим их таланты. Но вот страшный удар грома, от которого зазвенели стекла и, казалось, весь пароход застонал. Тогда звуки вальса «Клико» замерли и исчезли… чтобы уступить место другим звукам. Господин в пенсне, вероятно, желавший показать, что гроза такое ничтожное явление, которое не возбуждает его внимания, а может быть, и не желавший показать именно этого, а руководимый другими целями, Бог его знает, — так вот этот самый господин сейчас же после того, как барышни встали, сел за инструмент и исполнил целую программу, в которую входили: кадриль «Мадам Ан-го», «Очи черные», также «Чаруй меня» и много других неизвестных мне вещей этого рода».
Самарские впечатления однообразны. Он живет на даче в восьми верстах от города. У него две комнаты — спальня и, как назвали ее хозяева, «приемная». «Хотя я в ней до сих пор, кроме хозяйского сына да еще его собаки «Нерошки», никого не принимал», — улыбается он в письме к Наташе. Здесь, в «приемной», он пишет временами новые веши. А больше — наблюдает: иногда сидит часами, смотрит на сад через раскрытое окно. Ему нравится услышанное выражение, что лечение кумысом — это «наивное пьянство». После третьей бутылки, действительно, тянет в сон. Да и спят здесь по 12 часов в сутки. Наташе, расточая шутки направо и налево, пытается описать «типажи» чудаков, попавших на кумыс и обитающих поблизости. То это «дама в полосатом капоте, с лицом, носящим выражение вопросительного знака, и с очень внушительным носом, на конце которого волею судеб поселились две бородавки». То это «один сумасшедший, который является ежедневно в сад и прогуливается по его дорожкам, сгорбясь, похлопывая ладонями по животу и квакая, как лягушка, причем каждому прошедшему мимо он имеет обыкновение показывать нос». То — «художник, помешанный на деталях, во всем видящий лишь одни подробности и украшения», художник, который в музыке более всего любит форшлаги и группетто: «Стоит только в каком-нибудь произведении встретиться двум или трем группетто подряд, как у него невольно навертываются слезы».