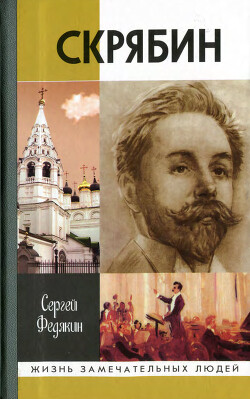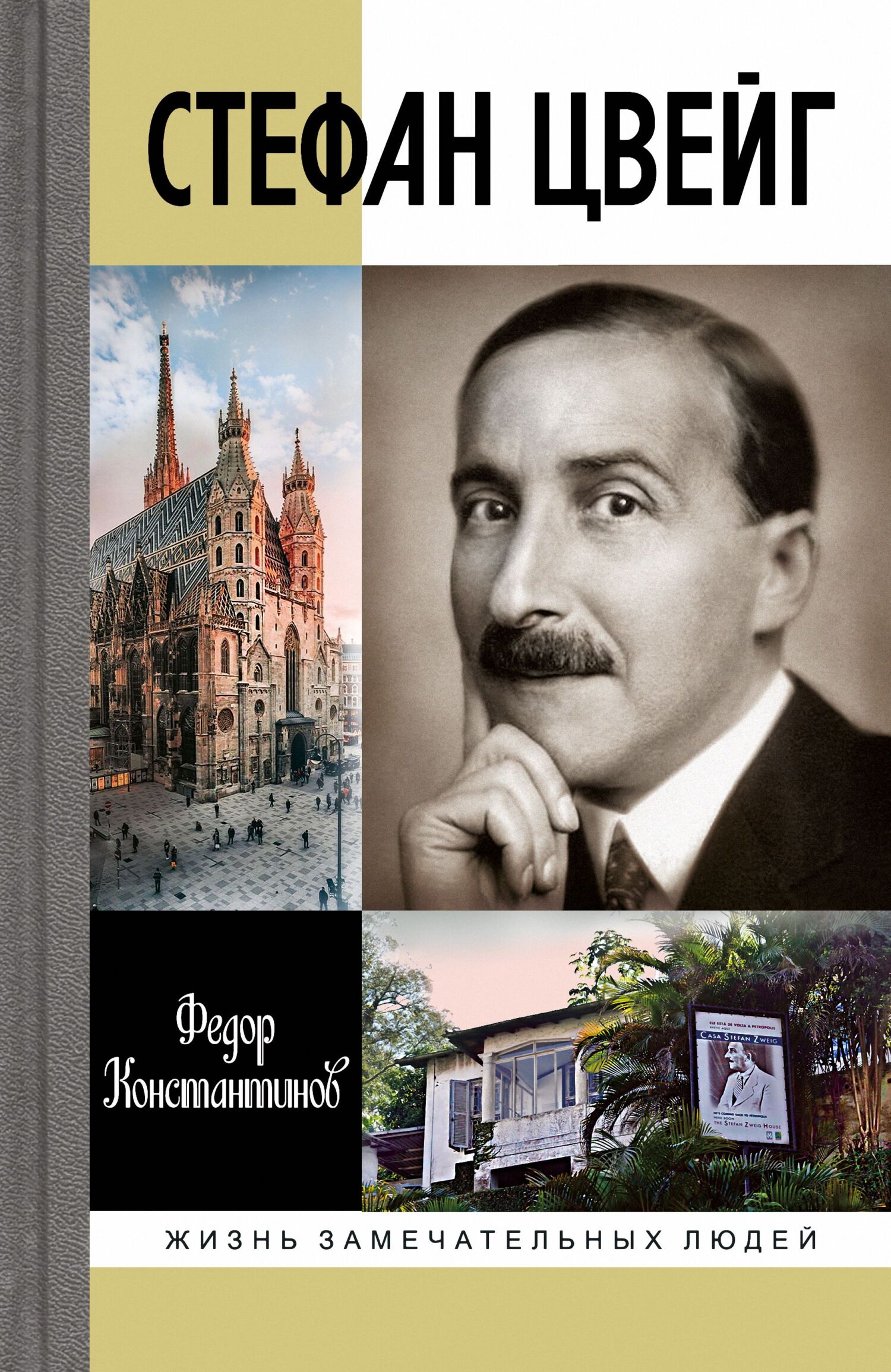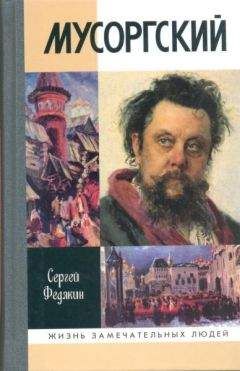«Еще и еще раз прошу Вас принять благодарность за Ваше любезное приглашение; также напишу Вам здесь еще раз, почему я не мог воспользоваться им. Уже летом я не мог похвалиться своими нервами. Осенью же, когда я жил некоторое время с Василием Ильичем Сафоновым и совершенно неумеренно предавался работе, состояние моей нервной системы дошло до такой степени раздражения, при которой человек становится совершенно нетерпимым в обществе. Мне нечего говорить Вам о том, насколько трудно мне было отказаться от столь приятной для меня мечты посетить Вас, а с другой стороны, я сознавал, что появление мое было бы для всех большой неприятностью. Василий Ильич настаивал на моей поездке за границу, но на это потребовалось бы слишком много времени, и вот я решился вместо этой заграничной поездки совершить маленькое путешествие на Кавказ. В настоящее время я нахожусь у Сафоновых в Кисловодске и не знаю, как мне благодарить их за то радушие и гостеприимство, которыми они меня подарили. Чудный кавказский воздух и горы, по которым мы ежедневно совершаем с детьми (мне судьба гулять с детьми) довольно длинные прогулки, имеют благотворное действие, и я надеюсь к октябрю сделаться человеком».
В октябре он действительно объявится — окрепший, живой. Не жаловался даже на руку. К Секериным зачастил. Наташа теперь «взрослая», она учится на исторических курсах, Скрябину, когда он появляется, читает биографию Бетховена. Он дарит ей романс. Увы, весьма традиционный.
Хотел бы я мечтой прекрасной
В твоей душе хоть миг пожить,
Хотел бы я порывом страстным
Покой душевный возмутить!
Великой мыслию творенья
Головку чудную вскружить
И целым миром наслажденья
Тебя, о друг мой, подарить!
Слова, им написанные, выдают не только слабость стихотворной техники. Чувства, наполнявшие композитора, вылились в неказистые и банальные фразы. Правда, две строки:
Великой мыслию творенья
Головку чудную вскружить… —
содержат зародыш оперы, над которой он будет биться позже.
Музыка была столь же странна для Скрябина, как и текст. Розенов, услышав этот романс, назовет его «офицерским». Да и сам Скрябин говорил о музыке, что ее нужно писать заново. Но думать об этом ему уже некогда. Он погружен в другое сочинение.
Однажды Ольга Валерьяновна, вернувшись домой, застанет Скрябина и сестру за столом. Перед композитором лежала нотная бумага. Он что-то быстро записывал. Потом отрывался, проигрывал на рояле своей «маленькой музе» куски, что-то пояснял. Когда услышал вопрос старшей сестры: «Какую вы там фантазию создаете?» — ответил: «Наталья Валерьяновна создает мне настроение, а я создаю сонату».
Через несколько дней он принес свое детище. По краю нотной бумаги вились виньетки из цветов. В заглавии стояло: «Соната-фантазия».
Эта вещь будет переписываться несколько раз, вынашиваться долго. Ее окончательный вид вызреет через три года. Что осталось в ней от «Наташиного» варианта?
Жизнь Скрябина была так же неустойчива, как и его творчество, будто вбирала в себя множество «черновиков», лишних тактов, «неокончательных вариантов». Он навещает Наташу, много сочиняет. Каков Скрябин во всем остальном — об этом позже расскажет Игумнов: «…вел образ жизни довольно несуразный: вставал всегда часа в два, затем совершенно неукоснительно каждый день в 4–5 часов ездил с визитами, посещал знакомых и т. д.; он вообще был проникнут светскостью и, быть может, немножко разыгрывал из себя парижанина. Он тогда совсем не выступал, потому что рука у него продолжала болеть; дома он тоже играл очень мало — только показывал свои сочинения… Но и в этих кратковременных домашних показах чувствовалось, что как музыкант и пианист он обладает исключительными достоинствами. У него был великолепный по мягкости и какому-то особому vibrato звук, легкая подвижность пальцев, на редкость живая фразировка. Он бесподобно педализировал, и я вполне солидарен с теми, кто говорил, что на его ноги надо было смотреть не меньше, чем на руки…»
В концертах он все-таки участвовал. В Петербурге и в Москве. На московском была Наташа с матерью. Как бы ни была Мария Дмитриевна не расположена к Скрябину, игра композитора восхитила и ее. Публика встретила пианиста с воодушевлением. И отклики на эти выступления весной 1895 года — хоть и не без всяких «но», однако писаны были с «подъемом»: «серьезные композиторские задатки», «…обладает несомненным талантом и как пианист, и как композитор», «богатая и вместе с тем тонкая гармония, искренность настроения», «благородство фортепианного стиля, совершенно чуждого всех обычных, установившихся в подражание Листу, приемов». Благожелателен был даже отзыв ворчливого Кюи. Хоть он и нашел в Скрябине избыток «духа Шопена», но отметил и важное: «много тонкого вкуса, изящества», «проявляется глубина мысли и чувства, проявляются увлечение, страсть и сила», «гармонизация часто оригинальна»…
Вряд ли Скрябин знал, что рецензии предшествовала стычка брюзгливого Кюи со Стасовым, которую благородный старик пересказал в письме к Беляеву:
«Как я был удивлен вчера вечером в концерте, увидав, сколько людей восстановлено против Скрябина!! Во-первых, Кюи, который мне объявил, что Скрябин — да, недурно, но однообразно и ничего особенного нет!! Задал же я ему за это гонку и много раз повторил: «Нет, Вы лучше пойдите и хорошенько послушайте», — на это он порядком рассердился».
Славный, «неистовый» Стасов переубедил Цезаря Антоновича. У беляевцев уже никого убеждать не приходится. Запись в дневнике издателя «Русской музыкальной газеты» Н. Ф. Финдейзена говорит и об этом:
«Все от него вповалку — и Римский-Корсаков, и Лядов, и Блуменфельд с Лавровым, и Беляев (и, конечно, Стасов). «Сперва он сыграл свой ноктюрн. Так себе, ничего. Ну, думаю, — говорит Стасов, — если и все так, то тут еще нельзя ожидать нового и хорошего. А потом он сыграл фантазию. Это черт знает как хорошо. Мы все кричали и сейчас же сию минуту заставили ее повторить»…»
Скрябин-композитор становится величиной все более несомненной. Беляев его торопит, он хочет, чтобы Саша быстрее завоевал себе аудиторию. Скрябин сидит над этюдами (они войдут в опус 8) и — медлит. Перед Митрофаном Петровичем приходится оправдываться: «Работаю я теперь буквально целые дни, как встаю, сажусь за писание и так, не разгибаясь, и просиживаю до вечера; не выхожу даже погулять. Вы подумаете, что я пишу что-нибудь новое? Вовсе нет; все этюды. Некоторых из них Вы и не узнаете, такой переделке они подверглись…» Зачем он так долго мучается со все теми же произведениями? — В ответ звучит фраза, которую композитор мог бы повторить и через год, и через десять лет, и в конце жизни: «Выпускать же в неоконченном виде мне ничего не хотелось бы».
У него есть почитатели, и самые авторитетные. Есть друг-издатель. Есть уже настоящий успех у публики. Но утомление композитора достигает опасной грани. Его апрельское письмо Беляеву — настоящая исповедь. Здесь сошлось все: и очень личное, и творческое, а за всем — крайнее нервное напряжение:
«Многоуважаемый Митрофан Петрович!
Примите мое приветствие «Христос воскресе» и пожелание всего лучшего. К сожалению, мне, вероятно, не придется на праздниках лично увидеть Вас. Причина тому довольно сложная, я Вам о ней расскажу, писать же мне не хотелось бы. Не сердитесь на меня, дорогой Митрофан Петрович; от Вас уже столько времени нет весточки, что я думаю — Вы меня и знать уже не хотите. Ну право же, когда приеду, побраните, накажите, только не сердитесь. Вчера мы провели почти целый день с Василием Ильичом, с которым больше 2-х недель не виделись. Я его очень огорчил одним сообщением о себе, тем, которое отчасти и служит причиной задержки. Мы очень долго говорили, спорили, и в конце концов все-таки каждый остался при своем. Мне очень интересно будет знать Ваше мнение о том же предмете, который я Вам при свидании подробно изложу, если Вам не неприятно и не скучно входить в мою интимную жизнь. Вот Вы меня раз в письме назвали беспомощным и знаете, что, действительно, в некоторых отношениях-я ребенок совершеннейший: шага не могу сделать уверенно. И все крайние настроения: то вдруг покажется, что сил бездна, все побеждено, все мое; то вдруг сознание полного бессилия, какая-то усталость и апатия; равновесия никогда не бывает. Я говорю, что у меня сердце относится к разуму, как благоразумный артист к критику: он выслушивает его, а сам продолжает идти по раз избранному пути. А критик старается страшно, рецензия за рецензией, наставление за наставлением, и все ни к чему. Вот ведь какой разлад. Ведь нужно же было двум полюсам поместиться в одном человеке. И, право, не знаю, кто победит. Однако простите, Митрофан Петрович, что так злоупотребляю Вашим терпением. Сегодня Вы, наверное, скажете: нет, уж пусть лучше короткие письма пишет. Не сердитесь же на меня и напишите об этом, до тех пор я не успокоюсь. Передайте мое поздравление и лучшие пожелания Марии Андреевне и не забывайте преданного Вам