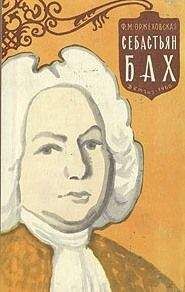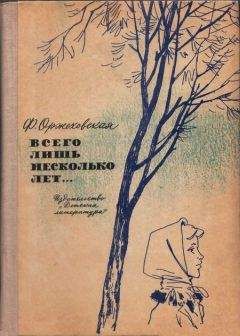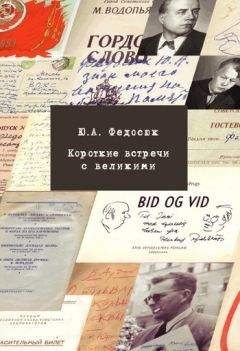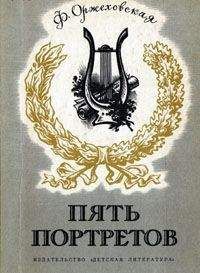А о госпоже Минне он заботился до последнего дня, и нужды она не знала.
Теперь позвольте мне вернуться к главному.
С прибытием Вагнера наша жизнь круто изменилась. Мы с нетерпением ожидали репетиций и, право, немного походили на безумных, когда, забыв о времени, о голоде, проводили на этих репетициях по пять-шесть часов, ловя каждое слово капельмейстера, каждый жест и подчиняясь магическому влиянию его музыки.
Взрослые люди те же дети: они любят сказки. А Вагнер умел их мастерски придумывать. Из множества мифов, которые он изучал, создавалось что-то новое — и похожее на них и в то же время свое. Я тех мифов не читал — пробовал, но не осилил, — но мне кажется, что вагнеровские гораздо интереснее. Что говорить: он был человек образованный и очень умный.
Какие чудеса открывались перед нами! Волшебный грот Венеры прямо под ногами, у подножия горы. Заклятый корабль вечно несется по морю. Рыцарь прибывает издалека в серебряном челне, запряженном белым лебедем. Ведь надо же придумать такое! Подземные карлики день и ночь куют сокровища… Какие резкие повороты, неожиданные поступки, какие сильные характеры! И я должен был изображать их: играть роль Риенци, Тангейзера, Лоэнгрина…
С большой самонадеянностью, свойственной мне в те годы, я брался за все. Наш хормейстер Вильгельм Флейшер, опытный музыкант, сказал мне сейчас же после приезда Вагнера, когда мы еще не знали его силы:
— Послушай, Иожеф, я опасаюсь за тебя. Ты очень талантлив, голос у тебя редкой красоты, но, с другой стороны, ведь ты фанфарон, самовлюбленный петух — щеголяешь на сцене обтянутыми ляжками и верхним си-бемолем и строишь глазки посетительницам. А Вагнер таких терпеть не может. Смотри! Я только надеюсь на твое чутье и музыкальность.
Я не обижался на Флейшера: он по-своему любил меня и желал мне добра. К тому же он был прав: я не успел получить хорошего образования, а успех уже немного испортил меня. Но, сознавая это, я все же ответил:
— Какой бы я ни был, у меня есть опыт, а этот выскочка в первый раз ставит свою оперу. Еще вопрос: соглашусь ли я петь? Что он будет делать тогда?
И когда Вагнер в первый раз стал объяснять мне, кто такой Риенци — моя будущая роль, — я слушал рассеянно. Затем спросил про Риенци:
— А какой на нем будет костюм?
Флейшер сделал страшные глаза. Но Вагнер спокойно ответил:
— Костюм будет великолепный: настоящие медные доспехи. На сцене все будет блестеть и греметь.
Потом он сказал с улыбкой, обращаясь к Флейшеру:
— Вопрос о костюме немаловажный.
Я был покорен.
Вот так и начались репетиции «Риенци». И чем дальше, тем лучше. Вагнер был доволен мной и говорил, что я вошел в роль, угадал характер римского трибуна. К тому же благодаря хорошей музыкальной памяти я очень быстро выучил трудную партию. Впоследствии, когда мы уже были друзьями, Вагнер говорил мне:
— Может быть, это и к лучшему, что ты не успел приобрести «ученость». Ты восприимчив к прекрасному, и тебя не приходится переучивать. Повинуйся чутью — больше от тебя ничего не требуется.
Он любил меня, несмотря на мои недостатки.
Он всегда жаждал иметь друзей, но быть другом Вагнера, ох, какая это трудная задача! Мы боготворили его как художника и боялись как человека. При его чертовской требовательности и деспотизме невозможно было ни угодить ему, ни мириться с его капризами. Он хвалил меня за восприимчивость, но столкновения — увы! — бывали. Не раз я прерывал репетицию, срывал с головы шлем или другой убор и бросал его на землю. Не раз Вагонер прогонял меня со сцены, запретив показываться ему на глаза. Мне кажется, один только Лист при его несравненном характере мог оставаться другом Вагнера долгие годы, да и то в последнее время между ними пробежала черная кошка.
— Кто хочет быть моим другом, — сказал мне однажды Вагнер, — тот должен многим жертвовать…
При всем том, вы знаете, он был такой веселый. Даже трудно себе представить. Он мог хохотать как безумный, стоять на голове, ходить на руках по комнате, придумывать уморительные фокусы…
Мне не в чем его упрекнуть. Когда его звезда начала разгораться, а моя закатываться, он не забыл старого товарища и вызвал меня из Дрездена в Мюнхен, чтобы именно я пел Тристана. Я не понравился этому мальчишке, королю Баварскому, и Рихард ничего не мог поделать. Но его поступок говорит о многом.
Все же его нетерпимость ужасала нас. У него была пренесносная манера навязывать всем свои вкусы. Признаться, я до сих пор не понимаю, почему надо любить только одно течение в искусстве. Есть вещи хорошие и плохие, увлекательные и скучные. Первые нам нравятся, вторые — нет. Я думаю, так смотрят на искусство не только простые люди, вроде меня, но и весьма многие любители и знатоки. Но Вагнер — нет! — он определял искусство иначе. Он не любил, например, Россини и бранил нас за то, что нам нравится «Севильский цирюльник» или «Вильгельм Телль». Как музыканты, мы любили певучую, красивую музыку, что же в этом дурного? Неужели под небесами не хватит места для всех великих художников? Так ли их много?
Но если Вагнер не сумел внушить нам отвращение к музыке Россини, то любовь к его собственной музыке он внушил нам крепко и надолго. Мы были опьянены новыми впечатлениями; нас увлекла широта его намерений, глубина мыслей.
Говорят, во Франции художников заставляют изучать философию. Бог мой, что было бы со мной, если бы вдруг такая напасть объявилась и у нас! Я это говорю к тому, что всегда был слаб в философии и из книги «Святое семейство»[147] которой зачитывался Вагнер (и меня заставил читать), я понял лишь то, что автор порядочный безбожник. Но суть вагнеровской реформы, которую он через несколько лет изложил в своей книге, а в Дрездене объяснил артистам, показалась мне не такой уж трудной, может быть, потому, что он каждую свою мысль подтверждал музыкой.
Он говорил: «Опера — соединение нескольких искусств; слово в ней так же значительно, как и музыка; игра актера так же важна, как и голос певца; и чрезвычайно велико значение оркестра. Он — как хор в античной трагедии». И если в итальянских операх оркестр часто лишь поддерживает, сопровождает и украшает пение, то у Вагнера он все: в нем и скрытые мысли, и чувства, и описания, — одним словом, все, чего нельзя ни сказать, ни спеть.
Оперу он называл музыкальной драмой.
И еще он говорил: «В музыкальной драме не может быть ничего случайного, проходящего: все служит одной цели, каждый характер обрисован яркими чертами, присущими только этому характеру». Впоследствии он развил свою систему лейтмотивов — коротких музыкальных характеристик. О них кое-кто говорил, что они запутывают действие. Мне же всегда казалось, что эта система очень стройна и логична.
Вы это знаете, конечно, не хуже меня, но я говорю об этом лишь для того, чтобы доказать, как часто очень трудные понятия бывают доступны простым умам. Вернее, я воспринимал не умом, а сердцем. Бывало, очень простую вещь никак не могу взять в толк, а вот другую, сложную, но если она выражена в музыке, чувствую как-то сразу. Вот почему я, порядочный невежда, смог сделаться со временем вагнеровским певцом. Многие этому удивлялись, а Вагнер — тот понимал.
Я, кажется, говорил вам, что любой миф он приближал к нашему времени. Как это объяснить? Вот, например, смотришь пьесу из современной жизни: мужчины во фраках, дамы в модных платьях и язык привычный, а на тебя веет чем-то старым-старым, давно отжившим. А у Вагнера, в какую бы старину он ни забирался, даже к язычникам, к дикарям, всегда узнаёшь что-то родное, знакомое… Ведь есть среди нас и моряки-скитальцы, проклятые души, есть и Тангейзеры, которые места себе не находят: всё мечутся — и в жизни и в искусстве. И верят, искренне верят то в римского папу, то в Венерин грот. Что говорить, многие из нас в трудную минуту смотрят вдаль и ждут Лоэнгрина, — другое дело, что он не появляется!
Кстати, Вагнер толковал нам, что Лоэнгрин — это художник, которого не поняла толпа. В таком случае, это современный художник.
Или возьмите вы Зигфрида — героя народной сказки! Бог ты мой! Разве это не идеал нашей немецкой молодежи, которая стосковалась по доблестным, хорошим делам? Я говорю не о тех молодчиках наших дней, которые шалеют от воинственного пыла и в пивных кричат «Хох!» в честь кайзера. Я говорю о достойных патриотах, о лучших людях. Особенно тогда, накануне революции, как их ждали! И вот Зигфрид — смельчак, сковавший меч, разбивший свою наковальню, добрый, веселый, не знающий страха. Хейза! [148] Ничем Вагнер так не угодил нам в те годы, как созданием этого образа.
Вы, конечно, слыхали о Михаиле Бакунине, о русском революционере, который участвовал в нашем дрезденском восстании в сорок девятом году? Многие уверяют, что он — прототип вагнеровского Зигфрида[149]. Ведь они были друзьями — Вагнер и Бакунин. А по-моему, насчет прототипа это сильно преувеличено. Конечно, какая-то первобытная сила, здоровье, смелость — все это было в Бакунине. Я сам слышал, как Вагнер сказал о нем: «Прямой потомок Зигфрида!» Но он сказал это шутливо, мое ухо улавливает оттенки. Образ Зигфрида слишком могуч; приятель Вагнера только слегка напоминал героя народной легенды. Но для воображения художника достаточно искры, чтобы разжечь ее в пожар.