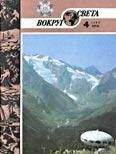— Ене!..
Пожилой вскочил и замер, глядя на винтовую лестницу, уходящую круто вверх. Бори резко поднял руку и, быстро взглянув на молодого, произнес:
— Жена...
Молодой перевел.
— А... жена...— повторил старый солдат и одобрительно кивнул. Бори крикнул жене, что сейчас поднимется и чтобы Илона не волновалась — все в порядке.
— Я могу подняться наверх, к жене? — спросил он у русских.
— Конечно, конечно,— торопливо ответил радист.
— Волнуется,— усмехнулся пожилой и неожиданно для Бори подмигнул ему.— Иди...
— Что там, Ене, кто там? Я слышала голоса. Солдаты? Немцы? Что им еще от нас надо? — Илона кинулась к мужу, едва он вошел в комнату.
Бори молчал, он думал, стоит ли говорить жене правду. Но, вспомнив, что один из русских останется в замке, произнес:
— Это русские. Пришли русские солдаты... Ведут они себя почтительно. Один из них должен остаться здесь — какое-то у него дело...
— А как же немцы? Ведь завтра придут немцы! Как же он останется здесь? Они же будут стрелять друг в друга?!
Эта мысль как-то не приходила архитектору в голову, и только сейчас, услышав Илону, он нерешительно сказал:
— Я строил этот замок не для того, чтобы в нем убивали людей...— Бори говорил и как бы прислушивался к собственным словам.— Я пойду к ним, они ждут...
Архитектор остановился на пороге и взглянул на радиста. Только сейчас Бори заметил, как молод этот человек в солдатской форме: «Наверное, ему лет двадцать».
Свет от лампы падал на лицо радиста, подчеркивая его бледность, а глаза, отсвечивая, источали многодневную усталость, и было понятно, что усталость эта уже зачерствела в его теле, сжилась с ним накрепко.
Пожилой солдат что-то тихо сказал радисту, и они, отойдя в сторону, зашептались.
— Ну ладно! — Старшина закинул на плечо автомат.— Отдыхай тут, Жорка, денек у тебя завтра жаркий. А мы тебе поможем, будь спокоен, поможем! — Старшина шагнул к радисту.— Ну, парень... давай! — Он распахнул руки и притянул к себе товарища.
Бори ничего не понял из сказанного старшиной, только почувствовал, что эти люди прощаются, и даже стало ему отчего-то неловко.
— Ну... Иди...— радист отодвинулся от старшины.— Скажи там, чтобы стреляли точнее, а уж я постараюсь.
Пожилой солдат повернулся и вышел.
— Хорошо у вас тут, красиво,— с чуть заметной грустью произнес Жорка и вздохнул.
— Да, да... хорошо,— тихо повторил Бори и, подойдя к столу, подкрутил фитиль лампы. Пламя поднялось, затрепетало.
Архитектор думал, как сообщить этому русскому о немцах. Он вдруг понял, что этому юному человеку, который открыто и просто стоял перед ним, грозила опасность. Но сейчас Бори даже не смог бы объяснить себе, почему это его так волнует.
И тогда он спросил:
— Где вы научились говорить по-немецки?
— Еще в школе,— охотно ответил радист.— Потом поступил в университет, но учиться не пришлось, пошел воевать...
— Да, да... воевать,— эхом повторил архитектор.— Молодой человек... А вы не боитесь, что сюда могут прийти немецкие солдаты? Они здесь были недавно... интересовались замком, он ведь стоит на горе...
Радист ответил равнодушно:
— Немцы? Да вряд ли они появятся. Мы заперли их сегодня в городе, окружили, а завтра и из города вышибем...
— Вы уверены?! — такого ответа Бори не ожидал.— Так, значит... Так, значит, мы с женой можем остаться здесь, в замке?
— А почему нет? Живите. Вас, то есть ваш замок, наверное, даже охранять будут. Это же национальное богатство, культура ваша, так сказать... Мы не разрушаем, как фашисты.— И радист, заметив, с каким вниманием слушает его архитектор, вдруг начал успокаивать его:—Да вы не бойтесь. И жене скажите, чтоб не боялась. Все будет хорошо, нормально будет. Это я вам говорю...— «Я» получилось у него твердым и значительным.— Где бы мне лечь? — нерешительно произнес Жорка, не понимая молчаливого взгляда архитектора и оттого почувствовав некоторую неловкость.
— Лечь? — Бори обшарил пол глазами, еще даже не поняв смысла вопроса.— Лечь?! — чуть не воскликнул он.— Куда лечь? Зачем?!
— Поспать бы чуток,— совсем растерялся радист.
— Нет, нет... Простите, я должен... я обязан представить вас жене,— отчеканил архитектор.— Вы — мой гость!— И он показал Жорке на винтовую лестницу.— Прошу... очень прошу вас...
— Георгий... Жора... Здравствуйте,— представился Илоне радист, и теперь уже переводчиком стал архитектор: Илона немецкого не знала.
Жорка незаметно взглянул на свою грязную телогрейку, заметил мокрые следы, расплывшиеся по чистому полу от его сапог, и стало ему неловко. Он переступил с ноги на ногу и, с тоской посмотрев в стоявшее как раз напротив зеркало, увидел всего себя, худого и запыленного.
Имя, которое нужно назвать в ответ на другое имя, рука, которую надо протянуть руке,— все это напомнило о чем-то утраченном. Кажется, он никогда не протягивал вот так запросто руку женщине, с которой нужно познакомиться, будто на вечеринке, из его довоенной жизни...
Бори, заметив смущение радиста, тут же предложил:
— Пройдем в мою мастерскую, там будет уютнее. Выпьем кофе?
Когда Илона принесла чашки и поставила на стол вазочку с аккуратно разложенным печеньем, Жорка с ужасом подумал: сейчас ему придется протянуть огрубевшие, с въевшейся грязью руки к этим белоснежным чашкам. И чтобы отдалить этот момент, радист с подчеркнутым интересом спросил:
— Вы давно здесь живете?
— Давно...— задумчиво ответил Бори.— Вы пейте кофе, пейте...
— Да я пил уже сегодня,— нашелся солдат.
Архитектор бросил взгляд на жену, а Илона, поняв этот взгляд по-своему, заторопилась: «Я поняла,— сказала она мужу по-венгерски.— Он, наверное, хочет выпить. Я сейчас». И она вышла из комнаты.
— У вас есть родители, дом? — поинтересовался Бори, чтобы как-то скрыть свою неловкость.
— Есть! — тут же ответил Жорка.— Есть! — повторил он радостно, цепляясь за возможность говорить, как за спасительную соломинку, и тут же начал подробно рассказывать о своей матери, об отце, о доме, о том, как поступил в университет. Жорка разговорился настолько, что забыл о своих руках, не обратил внимания, как Илона поставила на стол графинчик, как села рядом и смотрела на него грустно и задумчиво.
— Боже, Ене, как он молод, как молод! — говорила она мужу.
— Войне безразличны возрасты, Илона...
Уже глубокой ночью Жорку, заведенного от собственных разговоров, оставили одного. Постелили ему тут же, в мастерской, на диванчике. Хозяева вежливо пожелали ему спокойной ночи, и снова эти простые слова прозвучали для него отзвуком далекого родного дома.
Радист так и не добрался до постели, источавшей белизну и свежесть. Он уснул, уронив голову на стол. И его руки лежали ладонями вниз на светлой скатерти.
Из башни хорошо было видно, как появлялись из сумерек очертания холмов и городских зданий. Туда и всматривался радист, склонившись к окошку.
Чувство настороженности, которое вселяет передовая, сейчас оставило его. Он услышал запахи согретой ранним солнцем земли, увидел парк, неровным пятном окруживший замок, но странно — ничто его не волновало. Это было знакомо многим, кто переходил с ним границы на пути к Берлину. Чужая земля. Она могла настораживать, восхищать, удивлять, но волновать — нет, этого не было.
Вспомнил радист, как шли они в темноте со старшиной, прокладывая тонкий провод по веткам деревьев, и сейчас он подумал, что тянется этот провод к его окопам, к орудийным расчетам, которые ждут его, Жоркиного, голоса. Но мысли эти не успокоили, напротив, насторожили, напрягли его нервы, и радист еще пристальнее начал всматриваться в даль...
Прогремел залп, и он начал накручивать ручку телефона:
— Шестой! Шестой! Я — четвертый! Я — четвертый!
С востока в сторону города и от города на восток ударили орудия, и протянулась сплошная гудящая мощь несущихся друг на друга снарядов.
По далеким дымкам и вспышкам, передвижениям техники радист угадывал расположение немецких огневых точек и кричал в трубку:
— Шестой! Шестой!.. Квадрат двадцать, квадрат двадцать! Шестой! Квадрат восемнадцать! В восемнадцатый поддайте огонька!.. Шестой, шестой!..
Вскоре он потерял ощущение времени, пространство сжалось в одну сплошную полосу, закипавшую белыми разрывами, которые нужно было засечь и тут же передать их координаты.
Когда начался артобстрел, Бори с женой спустились в подвал. Архитектор, поджав губы и привалившись прямой спиной к стене, сосредоточенно смотрел на входную дверь, сквозь щели которой пробивались пыльные солнечные струи. Илона тоже молчала, и, только когда вой пролетевших снарядов становился невыносимо близким, она сжималась всем телом, и ей хотелось лечь на землю вниз лицом.
Сколько продолжался этот грохот, этот обстрел — час? два? три?..