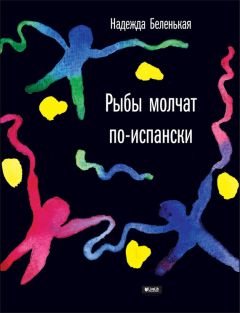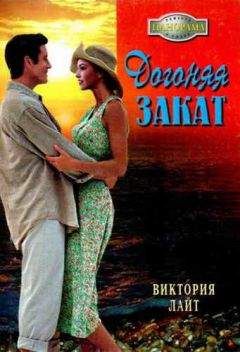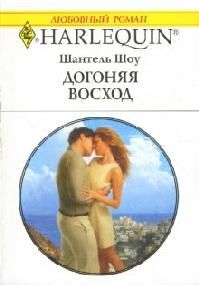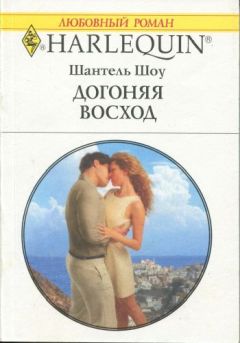- осознавал ли режиссер эту новую реальность? Ведь она переносит параллельного наблюдателя, то есть зрителя киноленты, на новый уровень восприятия. Вот почему от некоторых фильмов, затемненных и исчирканных временем, в памяти так и остаются робкие попытки психоделического эксперимента: отдельные кадры постепенно образуют новый сюжет и получается еще один фильм, параллельный задуманному).
В общем, предметы в комнате постепенно оживали, почуяв свободу, которой нужно было по-быстрому пользоваться (впрочем, уличное "по-быстрому" не очень подходит к жизненным циклам домашних предметов, во всяком случае, в человеческом понимании: предметы пребывают в замедленном времени, и "по-быстрому" процессы в них происходят разве что в особых обстоятельствах, например, под воздействием силы огня, чего в данном случае не наблюдалось).
Главным предметом в комнате, с точки зрения отсутствующего наблюдателя, была, разумеется, люстра (большинство вещей имело свое мнение на этот счет, но это ничего не меняет). Люстра была твердо убеждена, что земная поверхность - это пустынный потолок, на котором она стоит одиноко вот уже 50 лет, прилепившись к нему круглой бомбоньеркой с опасно торчащими проводками. От бомбоньерки расходились изогнутые рогулины, к каждой из которых крепился фунтик в форме тюльпана из хрупкого стекла, конфетно-белый изнутри и муаровый по кромке, и тут уже, натурально, внутри присутствовала лампочка, которая робко выглядывала из фунтика тусклым пузырем, наполненным серой пустотой (и сколько бы вас не уверяли, что цвет реальности - это цвет пасмурного дня, не верьте, а лучше загляните в выключенную электрическую лампочку и всё поймете сами).
Высокие часы в кружевном футляре тикали гулко и важно. Маятник методично, с конторской дисциплинированностью отмерял секунды. Предметы посуды - не знаю точно, можно ли так их называть, или существуют только "предметы меблировки"? - в общем, все эти небольшие штуки - чашки, ложки мельхиоровые и из нержавейки, кое-какие тарелки различной вместительности, соусник, заполненный вместо соуса высохшими авторучками, обкусанными карандашами, замасленным штопором, а также прибившиеся к предметам посуды скомканные шарики из фольги - все это перемигивалось, обмениваясь непонятными сигналами, как маленькая рыбацкая флотилия, затерянная в море (каких только красивых пустоцветов не встретишь в саду метафор). Еще там были чопорно прямые спинки стульев, консервная банка с сардинами, нечаянно откупоренная со стороны дна, так что получалось, что она, как акробатка, стояла на голове - все вело себя так, словно вот-вот задвигается и заговорит, но проходили минуты, а оно молчало, замкнутое в неподвижности. Однако молчание вещей не было молчанием небытия: это было молчанием выжидания.
Несмотря на дневное время, сумрак скапливался по углам, как лохматые клубы собачьей шерсти. Вообще комната имела бедный, если не сказать убогий вид помещения в плачевном состоянии. Если не все, то многое в ней было наперекосяк. Люстра помещалась на своей параллельной плоскости чуть косовато. На потолке, сумрачном из-за собственного величия, пылилась обшарпанная, частично осыпавшаяся лепнина, изображающая растительный орнамент. Даже высохшая куриная кость в тарелке лежала как-то наискось.
А круглое зеркало на стене послушно заглатывало все эти детали интерьера удивленно открытым ртом.
"Вот бы что-нибудь произошло", - бормотнула сумка, купленная в прошлом году на блошином рынке, и зевнула. Из ее матерчатых внутренностей донесся запах брошенного жилья: мокрая зола, старые газеты, сырая тряпка, кошачья моча. "Фу, дыши куда-нибудь в сторону", - брезгливо поморщилась пудреница с окаменевшей бежевой пудрой "летний загар" и оттопыренным пыльным зеркальцем, в котором мог отразиться разве что рот или один глаз, но никак не целая человеческая физиономия - в данный момент в нем отражался кусочек лепнины и мутно-бежевая стена. Содержимое пудреницы прогоркло и тоже пахло своеобразно, однако она по-прежнему имела статус Косметики.
Сумка обиженно скуксилась, тем не менее ссориться никто не собирался: все предметы с любопытством уставились в окно. Даже тупая электрическая розетка таращила зенки, не мигая.
Прямо напротив окна у помойных контейнеров мыкалось Бабье Лето - обабившийся и подурневший август, который вернулся, вероятно, затем, чтобы забрать кое-какие пожитки. На августе был засаленный плащ, коричневые брючата в немодную полоску и стоптанные летние туфли. Предметы женского пола тут же принялись строить ему глазки, кто как умел, а те, у кого была ручка (пожилая джезва, к примеру), помахивали этой ручкой, чтобы их заметили.
Но Бабье Лето не обращало на них внимания - когда смотришь с улицы в окошко первого этажа, видишь только темноту, максимум - какой-нибудь крупный объект вроде кухонного буфета, но точно не худенькую закопченную джезву.
"Как вы думаете, почему оно вернулось?" - пискнула гнутая серебряная ложечка "из бывших".
"Наверное, по кому-то соскучилось", - предположила сентиментальная джезва.
"По тебе, не иначе", - завистливо буркнула пудреница.
"Да помолчите же секунду", - задребезжала ложечка, возбужденно поблескивая.
Все занялись построением догадок и соображений, и можно только гадать, что это были за догадки и соображения и как они были связаны с судьбами отдельных предметов и предметного мира в целом.
Но тут в замочной скважине щелкнул ключ, и предметы притихли. Тени, шепоты и перемигивания - все мгновенно куда-то делось (исчезновение признаков жизни действительно происходит в таких случаях мгновенно: это вещи умеют). Комната даже как-то зрительно уменьшилась. Теперь она была совершенно п у с т а.
И только зеркало послушно разевало навстречу хозяйке круглый рыбий рот.
Но Котлета к тому времени была уже основательно набрамшись (и отнюдь не абрикосового компота) и не заметила царившего внутри квартиры выразительного молчания.