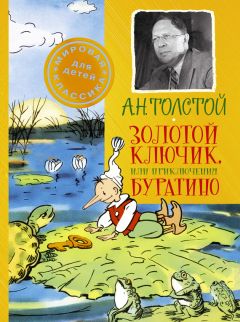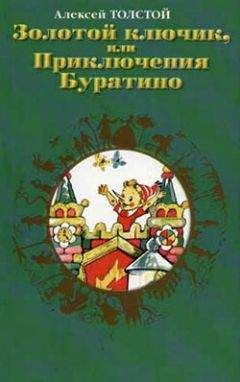застрелил из двух «наганов» кассира, охранника, клерка банка, а также даму и её маленькую собачку. Случай, конечно, прискорбный, но мы-то с вами знаем, что «революция не терпит чистоплюйства, её не сделаешь, рук не замарав, лес рубят — щепки летят». Так-то.
А до какой низости может распространиться подлость правительства, которое ни разу не предотвратило ни одного погрома мест компактного проживания революционеров. Конечно, правительство делало вид, что пытается ловить этих тупых крестьян и глупых поселян, которые устраивали погромы, но всё это было фикцией. Не могу понять, почему эти низкие и подлые люди не хотели жить рядом с революционерами и громили их. Наверное, из-за необразованности и темноты.
Вот такая ситуация складывалась в стране на тот момент, когда Пиноккио, возвращаясь из школы, открыл дверь своего дома.
— Где ты лазишь, дармоед? — взревел Карло, увидев своего сына. — Сколько тебя можно ждать?
— Папа, я вовсе не лажу, я ходил в школу, — оправдывался Пиноккио.
— В школу — в школу, — передразнил отец, — помешался уже на своей дурацкой школе. А кто будет помогать зарабатывать деньги старому, больному отцу? Петрарка что ли?
— Конечно же я, папа, — обрадовался сынок, — а что мы будем делать?
— А то тебе дурно невдомёк, ты же родился в семье музыканта.
— Мы будем петь?
— Будем, но сначала тебе нужно выучить песню, а ты шляешься, чёрт тебя дери, по своим школам вместо того, чтобы учиться.
— Я готов, папа.
Они уселись на кровать друг против друга, и папаша, дыша перегаром и луком, прочитал сыну текст песни:
'Солнышко палит кудри мои,
Дождик меня поливает.
Кушать охота, а злой полицейский
Палкой меня избивает.
Добрые люди, дайте поесть.
Может, хоть корочку хлебную,
Может, огрызок, не вечно ж глодать мне
Веточку тонкую вербную.
Храбрый папаша мой рисковал
В кровавом бою головою,
Ну а кресты капитан получал,
Папаша простился с ногою.
С тех пор он не может землю пахать,
Жизнь стала — сплошные мытарства.
Все бьют и ругают его, старика,
Он кушает только лекарства.
Мы с ним голодаем, врачи говорят,
Он сдохнет, наверное, скоро.
Прошу вас, синьоры, подайте нам сольдо,
Ночуем мы с ним под забором.
Текст оказался очень трогательным и душевным. Он очень понравился мальчику. Папа Карло даже удивился, как быстро он его выучил.
— Ладно, — произнёс он, беря в руки шарманку, — а теперь попробуем под музыку. Три-четыре, начали.
— Солнышко палит кудри мои, — запел Пиноккио изо всех сил.
— Так, хватит, — мрачно остановил его отец, — слух у тебя отсутствует полностью, но зачем же ты, подлец, так орёшь? Это ж тебе не кавалерийская атака.
— Надо петь тише? — расстроился Пиноккио.
— Тише и жалостнее, и больше души. Понял?
— Понял.
— Три-четыре, начали.
— Солнышко палит кудри мои, — застонал мальчик, и на этот раз допел песню до конца.
— Да-а, — сказал отец, отставляя шарманку и почёсывая затылок, — вот я думаю: может, тебе морду набить как следует?
— За что, папа?
— Для предания художественного образа. Ладно, не буду. Пойдём, правда, с твоим пением существуют два варианта: либо нам дадут много денег, либо надают пинков. Второе вероятнее.
Они вышли из дома и не спеша добрались до площади.
— Мы будем петь здесь? — спросил Пиноккио.
— Что за дурак у меня родился? — отвечал отец. — Перед кем ты здесь собираешься петь, перед полицейским что ли? Перед ним хоть джигу пляши — кроме как дубинкой ничего не получишь.
— А где же мы будем петь? — не унимался мальчик.
— Там, где жизнь кипит круглые сутки.
— Неужели в порту?
— В порту — в порту, — пробурчал отец.
Они прошли ещё немного и вскоре почувствовали солоновато-свежий, даже терпкий ветерок моря, запах моря, вкус моря. И мальчик первый раз в жизни увидел корабли.
Мир порта сразу покорил Пиноккио. Он обрушился на него подобно девятибалльной волне, смял и ошарашил мальчика буйством впечатлений.
Здесь бушевал пожар жизни, и это место страшно понравилось ему. Он смотрел на все широко открытыми глазами.
Корабли, огромные, как дома, в грязных потемках и угольной копоти. Красные от злости подрядчики, страшно матерящиеся друг с другом. Суетливые докеры, черные от угольной крошки, с паклей во рту, наполняющие пароходы углем. Бочки, огромные тюки, а как удивил паренька мусор, плавающий в воде. Казалось, что это не вода, а шевелящаяся земля, по которой можно ходить и даже танцевать. А какие здесь были колоритные люди! Шлюха-алкоголичка, валяющаяся на пирсе, юбку которой задрал какой-то шутник. Пьяный матрос, по пояс голый, в смешных наколках, с разбитой в кровь физиономией стоял недалеко от кабака и грозил заведению кулаком, при этом матерно ругался. А дальше по пирсу, где швартовались пассажирские корабли, публика была поприличней. Туда-то и направились наши музыканты.
Пароход был белый и удивительно чистый, а капитан прохаживался по палубе, не капитан, а картинка. Ловкие матросы в белоснежной форме суетились на палубе. А публика — сплошные баре. Дамочки в белых платьях, господа в цилиндрах, котелках, с часами и тростями.
— Какие красивые, — восхищенно прошептал Пиноккио, глядя на господ, отплывающих и провожающих.
— Ага, — согласился папаша с завистью, — богатые твари. Ладно, тут и станем. Соберись, плохо споёшь — убью.
И они начали:
— Солнышко палит кудри мои, дождик меня поливает…
— О, Господи, — перекрестилась одна молоденькая дама с перепугу.
Мужчины, все как один, неодобрительно посмотрели на музыкантов. А маленькая собачка, которую держал огромный лакей в бакенбардах и великолепной ливрее, залилась не то лаем, не то визгом и со злости на такую музыку цапнула лакея за белую перчатку, от чего тот исподтишка пригрозил папе Карло кулаком.
«Да, — понял Карло, — сборов здесь не будет. Сейчас прибежит дежурный по пирсу и выгонит нас отсюда».
Но он ошибался, надеясь на столь благоприятный исход, всё сложилось иначе. Из толпы отплывающих вдруг вышла дама, на полголовы выше самого Карло, весила она не меньше центнера и лет ей было около сорока. На её лице красовался огромный нос с маленьким пенсне, бородавка на щеке и растительность на верхней губе.
Воздев руки с зонтиком к небу, дама заревела басом:
— Божья Матерь, Дева Мария, что же ты делаешь, изувер?
Поняв, что