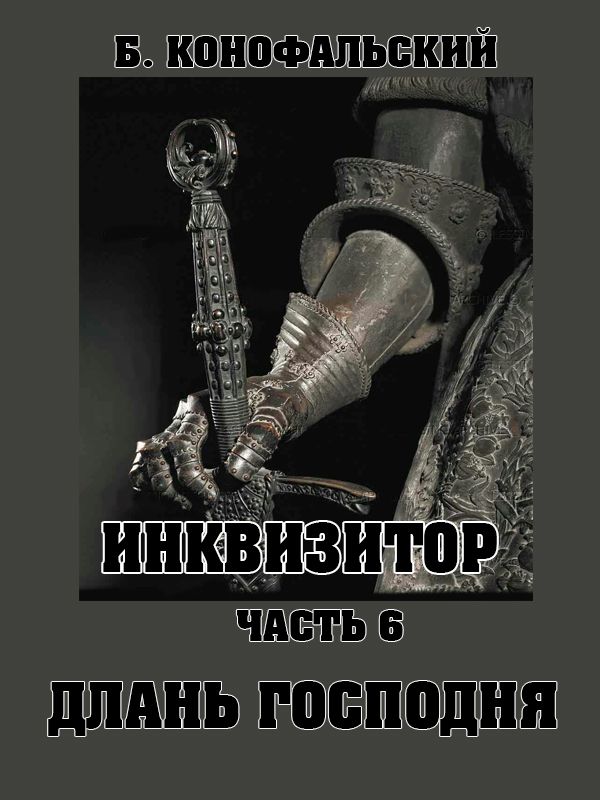людьми, с ним было четверо хорошо вооружённых конных послуживцев, а также телега с возницей. Все они стали ждать на улице господина Эшбахта, почти перекрыв на ней движение, а он, как назло, когда мылся, дёрнул шеей, да так, что боль пронзила его опять чуть не до поясницы. Кое-как брат Ипполит привёл его в чувство обезболивающей и вонючей мазью.
Волков думал, что неплохо было бы ему ехать домой в карете, жаль, нельзя. За старика начнут почитать. Даже на телеге было бы хорошо, кинул бы перину да лёг. И лежи себе, пока не приехал. И шея не шевелится лишний раз, и ногу не крутит через час езды.
Нет, нельзя. Скажут, что стар. Старик за собой людей повести не может. И дело тут не в праве и не в уважении. Старик не может напугать. Крикнет он: «Стой на месте и сражайся, иначе убью!» Кто будет сражаться и не побежит, кто послушается? Кто старика испугается? А командира должны не только уважать, но и бояться. Поэтому кавалер и ездил на коне, хотя так хотелось в перине на телеге хотя бы, раз кареты нет.
Урожай давно был собран, даже уже частично продан, мужики в Эшбахте вместе с солдатами ждали от господина фестиваля. Но на рынок Волкову за пивом и съестным самому ехать было невмоготу. Послал туда Рене, пусть престарелый муженёк его сестры помогает по-родственному. Не зря же он ему в приданое за сестру холопа дал.
Домой шли с целым обозом из телег. Одного пива двадцать две двадцативедёрных бочки. Не считая больших корзин с колбасами и сырами, мяса в полутушах, хлебов, пирогов и пряников для девок и детей, даже бочонка мёда, Волков дал Рене тридцать монет, так тот всё и потратил. Кавалер не хотел экономить в мелочах, ему было нужно, чтобы мужики и солдаты, все солдаты всех офицеров, были довольны жизнью на его земле. Не думали разбегаться, искать лучшей жизни, замерзая по ночам в своих жалких домишках. Господин должен быть и строг, и добр, должен и спрашивать, и награждать. И без крайностей: без жадной лютости, но и без попустительства.
Никто этому Волкова не учил, не был он сеньором в пятом поколении, просто он это понимал, так же как понимал, где искать выгоду и стоять на своём, а где и не жадничать. Пусть, пусть людишки порадуются напоследок. Пусть пожируют за счёт господина Эшбахта. Октябрь на дворе, уже октябрь, вот-вот с севера дожди полетят, а с юга, с гор, холодные туманы с ледяными ветрами. Волков вздохнул, а за холодными туманами могут и горцы прийти. Поэтому солдаты должны быть счастливы, счастливы, иначе начнут разбегаться.
Приехал домой, как всегда ногу крутит, сил нет самому слезть с коня. Теперь ещё новые люди всё это видели. Все: и фон Клаузевиц, и братья Курт и Эрнст Фейлинги, и все их люди тоже. Волков на них глянул так зло, что все, кто был во дворе и смотрел на него, сразу глаза отвели. А он, скалясь от боли и разминая ногу, пошёл в дом, крикнув перед этим:
— Монах, за мной ступай.
За ним кинулся брат Ипполит, кавалер поморщился:
— Да не ты, мошенника этого, брата Семиона позови, — и, подумав, добавил: — Хотя ты тоже понадобишься.
— Шея? — Спросил брат Ипполит.
— Нет, шея не болит, нога донимает.
Жена едва голову подняла, когда он вошёл, не встала даже:
— Здравы будьте, господин мой.
И снова уткнулась в шитьё. Сама бледная, ещё к бледности своей надела платье чёрного бархата, холодная, словно рыба дохлая. Некрасивая.
Зато Бригитт вскочила, присела низко, голову склонила, так в него глазами стрельнула, что понял Волков: есть у нее, что ему сказать. Но до ночи вряд ли представится случай с ней поговорить.
Он велел греть себе воду — мыться. Воды греть много. А сам пока с Ёганом поговорил о делах. Тот намеревался, пока дожди не пришли, отправить мужиков рубить куст на дрова. Дров на зиму было совсем мало. Ещё о всякой мелочи поговорил, говорил бы ещё час, да Волков прервал его. Ему было не до того. Хозяин думал, где ему восьмерых людей разместить, трое из которых господа. Ну не в людской же с холопами, в самом деле. Пока они на улице были, он их в дом не звал. Не звал из-за того, что говорить собирался с братом Семионом, и разговор мог выйти неприятный.
Тот как чувствовал это, пришёл, присел на край лавки и, пока господину дворовый мужик стягивал сапоги, а брат Ипполит осматривал шею, молился, перебирая чётки и закатывая к потолку глаза в праведном, но лёгком исступлении.
— Знаешь, о чём меня спрашивал епископ? — Начал Волков, когда брат Ипполит, наконец, престал разглядывать рану на его шее.
— Так чего же тут гадать, загадка тут небольшая, — сказал смиренно брат Семион, — видно, спрашивал он вас про костёл, построен ли.
— Именно, — сказал Волков, он врал, епископ и речи о том не заводил. — И знаешь, что я ему сказал?
— Наверное, сказали, что строится. — Отвечал монах.
— Опять угадал. — Продолжал врать кавалер. — А сколько денег у тебя на храм осталось, помнишь?
— Сотни две, — произнёс брат Семион, чуть подумав.
— Сто шестьдесят семь монет, — напомнил Волков и повторил серьезно, делая на это ударение, — сто шестьдесят семь монет от двух тысяч и двух сотен.
Монах только вздохнул в ответ. Он посмотрел на Волкова, кажется, понимая, куда тот клонит.
— Завтра, позовёшь сюда ко мне архитектора, он, кажется, дом доделал? — Продолжал кавалер. — Поговорим о храме, денег я на него дам. Две тысячи монет, думаю, будет достаточно. Но считать буду сам, тебе, дураку, веры больше нет. Твой дом я забираю…
Брат Семион сидел понурый, а тут вскинул на Волкова глаза, тот даже подумал, что сейчас он спорить начнёт или даже просить будет. Но нет, монах лишь пожал плечами и опять опустил голову.
— Забираю твой, но тебе свой отдаю. — Продолжи кавалер.
Монах снова ожил, уставился на Волкова, обрадовался, кажется:
— Ваш дом мне пойдёт?
— Только дом, амбары, овины, хлева и конюшни мои будут, но и ты можешь ими пользоваться, телеги я тоже тут на дворе буду держать, колодец мой будет, мне скот поить надобно, а огород твой. Холопы будут тут же жить, в людской, одну девку тебе в прислугу дам. Но в прислугу, — Волков поднял палец, предостерегающе, — пользовать её не будешь, а начнешь, и она пожалуется, так я её у тебя заберу.
Кажется, всё пока устраивало