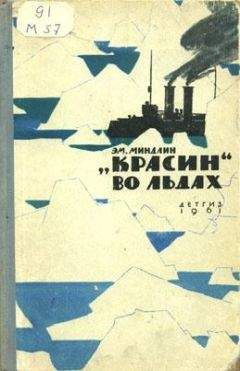Но Круксент, казалось, был абсолютно уверен, что ошибки тут нет.
Появилась теория, согласно которой эти письмена — наследство высоких культур, их сравнивали с письменами, найденными на острове Пасхи. Все предположения — увы! — строились на песке. Неясных мест было много, а образцов письма мало. В 50-х годах коллега Круксента, немец Иоханнес Вильберт, и миссионеры из «Лос Анхелес де Тукуко» собрали дополнительные материалы. Картина становилась более сложной — или более запутанной, как хотите. Оказалось, что у индейцев существует несколько названий для этих знаков: тиот-тиот и охемайтопо встречаются чаще всего. И пишут они не только на деревянных табличках, как о том говорилось в первых сообщениях и что наталкивало на мысль об острове Пасхи, но и на полосках бумаги или лоскутках материи. Сколько-нибудь приемлемой расшифровки по-прежнему не было.
Я столкнулся с проблемой тиот-тиот в 1965 году, когда, обрабатывая материалы о племени эрока, достал несколько статей на эту тему и занялся ими. И чем больше я читал, тем больше задумывался.
Юко-мотилоны, вообще говоря, единый народ с точки зрения языка и культуры, и большинство различий между ними возникло в последние десятилетия в результате сильного влияния колонистов и миссионеров. Такая важная часть культуры, как письменность, пусть даже примитивная, должна быть известна всем племенам. В данном случае этого не было. Индейцы, жившие на колумбийской стороне гор, ее не знали. Еще примечательнее то, что из тех, кто был в контакте с мотилонами до второй мировой войны, никто ни словом не упоминает о какой-либо письменности. Даже Александр Кларк, проживший среди индейцев манастара почти все тридцатые годы. (Интересно все-таки, насколько провинциальной бывает этнография. При изучении мотилонов их разделили по национальным границам, и каждый занимался «своими», не думая о сотрудничестве с коллегами.) Больше всего поражало отсутствие системы в письменности. Фигуры и символы крайне примитивны и наивны, причем широта индивидуальных вариаций в изображении каждого знака безгранична. Это мне больше всего напоминало наскальные рисунки, которые индейцы иногда делали безо всякой цели. Строгая система стилизованных знаков, которой мотилоны следуют при раскраске лица, никаких точек соприкосновения с письменными знаками не имеет.
Чтобы найти точку опоры, я начал анализировать различные названия этой письменности. Весиекепу значит «кусок дерева (тому кто) первым вступает на тропу». Охемайтопо — это «идущий по тропе», то есть просто весть, которая с кем-то передается. Тиот-тиот (или тиос-тио) вообще не мотилонское слово. Это наверняка переозвученное испанское «диос» (бог). Колдуны мотилонов в начале своих длинных речитативов всегда взывают к богам, и Круксент описывает, как тот, кто нес шесты с письменами, все время выкрикивал: «Весть!» Он же писал, что письмена употребляются во время посещения соседних деревень и при особых церемониях.
Круксент упоминает также о том, что в одной деревне, вероятно у индейцев уасамо, он видел три деревянные фигуры,— по его мнению, изображения богов или тотемные фигуры. Они были сплошь изрисованы письменами. Употреблялись эти фигуры в качестве своего рода судей, перед которыми провинившиеся признавались в проступках и которые потом через вождей передавали свои решения. Этот обычай не похож на обычаи мотилонов. Индейцы сказали, что большая фигура зовется Имопе, маленькая — Кишка, а средняя — Томаира. Имопе значит отец, Кишка — сын, оставалось только считать, что слово «Томаира» значит дух или что-то в этом роде. Нет. Оно скорее: «сделать своими руками». Индейцы, показав на одну из фигур, сказали: «Эту мы разрисовали».
Я вовсе не собираюсь смеяться над ошибками Круксента. У индейцев пшикакао я ошибся точно так же. Я спрашивал их, что значат различные виды праздничной раскраски лица. Их ответы казались мне странно схожими, но поскольку я в этом диалекте был нетверд, то записывал их, отмечая социальный статус собеседника. Потом оказалось, что мне несколько раз отвечали разными вариантами одной и той же фразы: «Это совсем другое!»
Я проводил и такой эксперимент в нескольких племенах. Увидев, что я сижу и пишу, индейцы обычно с любопытством наблюдали за тем, как я это делаю. Я объяснял им, что такое письмо, не вдаваясь в детали латинского алфавита, и давал бумагу и ручку. Результаты меня подчас озадачивали. Большинство рабски копировало мои буквы, но некоторые старались изобразить фонетическую систему с помощью линий, которые шли вверх или вниз в зависимости от ударения. Никто из них не пытался показать мне какую-либо форму иероглифического письма. Названия письменности, упоминавшиеся выше, никому не были известны в племенах, которые я посещал.
Я начинал все больше и больше сомневаться в том, что тиот-тиот — это письменность, которую мотилоны развили сами.
Единственным способом выяснить, имеют ли мотилоны свою собственную оригинальную письменность, оставалась встреча с племенами, живущими далеко в горах и лучше сохранившими свою старую культуру. Вот это и было причиной того, что я сидел теперь в Сасапе и любовался горами.
...Наладить контакты с пшикакао не так-то просто, а времени у меня было мало. Они отнеслись ко мне довольно сдержанно, хотя и были гостеприимны. Очень любезно они оставляли меня в покое, или, скажем, избегали меня — может быть, потому что я носил бороду. Лишь через несколько дней они узнали, что я не «капусйно» — католический монах-миссионер. Эти всегда с бородами. Я пробыл в деревне достаточно долго, чтобы стало понятно, что об иероглифической письменности здесь не знают.
...Рафаэль и Маргарита — индейцы-проводники, приведшие меня в землю племени пшикакао, — не пошли со мной дальше, и я дал им на прощание мачете, карманный нож, несколько напильников и алюминиевую кастрюлю. Для них поход был делом простым — ведь вместе со мной они шли к себе домой, и подарками они остались более чем довольны. Найти нового проводника оказалось нетрудно. Проблема была только в том, что индейцы редко ходят дальше, чем до ближайшей деревни, в которой они обычно хотят погостить дня два-три. Поэтому, придя в новую деревню, я сразу же искал себе нового проводника. От одной деревни до другой было примерно полдня ходу, и путешествие шло в спокойном темпе.
Чем дальше мы шли, тем труднее нам было... Приходилось идти вниз по течению Рио Тукуко, то двигаясь по ее берегам, то переходя ее вброд. По пути она вбирала в себя воды многочисленных притоков и становилась все шире и глубже, ускоряя свой бег. Джунгли тоже становились все плотнее. Было ясно, что пшикакао не имели обыкновения ни посещать своих соседей на востоке — племя каноапа, ни принимать у себя миссионеров. После того как мы ушли от пшикакао, мы шли нехоженой тропой. За весь дневной переход мы не видели над собой неба, плотной стеной нас окружал лес, дышавший горячей гнилью, а едва различимая тропинка то резко карабкалась вверх, то круто обрывалась, падая вниз. Лесные гиганты стояли плечом к плечу, и, когда ветер задевал их кроны, джунгли отзывались жалобным, унылым стоном. «Это кричат тахито, лесные демоны», — говорили индейцы.
Я записал на магнитофон не только несколько старинных песен, но и две легенды о громовержце Тапана, причем один раз запись шла на фоне настоящей грозы. Но когда я переходил к вопросу о тиот-тиот, то всякий раз получал отрицательный ответ, к которому уже привык.
Начался период дождей, и в течение двух дней нельзя было выйти из хижины. Вода в реке сильно поднялась, и я начал опасаться, что переправы через нее будут слишком сложным делом. На третий день, когда дождь кончился, вода в Рио Тукуко поднялась на метр, и грохот водопадов стал сильнее. Я договорился с одним из индейцев, что он поможет нести вещи, но мы решили обождать, пока вода спадет.
Через два дня двинулись в путь. Дорога была легче, чем раньше. Самыми трудными были переправы, поскольку река стала не только глубже, но и шире. Иногда ее ширина достигала ста метров. Сколько раз мы переходили Рио Тукуко, не знаю: я досчитал до двадцати, а потом перестал.
К вечеру мы прошли уже половину пути и остановились отдохнуть в хижине у одиноких стариков индейцев. Они жили тем, что выращивали бананы и юкку; их хижина мне показалась райским уголком. Я с удовольствием вытянул усталые ноги.
После двух часов отдыха я был готов продолжать путь. Однако мой проводник упрямо отказывался идти дальше и собирался остаться здесь на ночь, а утром тронуться в обратный путь. Раньше никогда не случалось, чтобы я по-настоящему сердился на индейца, может быть, потому, что у меня для этого просто не было повода. Но я думал только о том, что, если он уйдет, мне придется ждать несколько недель, пока кто-нибудь из индейцев не пройдет мимо по пути в саванну. Проводник стоял на своем, и я, забыв о приличии, повысил голос. Я кричал, что раз он обещал вести меня до миссии и этого не сделал, то он не получит от меня ни сентаво. Он удивленно смотрел на меня, наверняка считая, что видит припадок сумасшедшего. Когда я кончил это свое невыдержанное выступление, он спокойно объяснил мне, что до самой миссии он меня решил не вести, и ему совершенно безразлично, заплачу я положенные деньги или нет. На этом дискуссия закончилась. Когда я остыл и увидел, как спокойно ведет себя мой индейский друг, мне стало стыдно. Он получил свои деньги и пошел домой — я считал, что домой. Оказалось, однако, что он отправился в деревню неподалеку и нашел там человека, который согласился закончить за него работу. Часа через два он привел его ко мне.