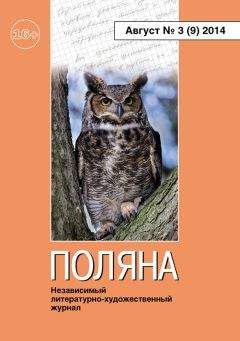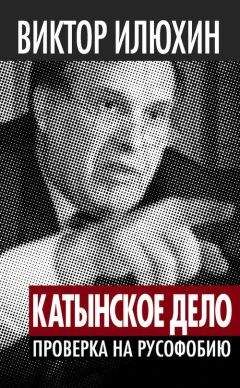Можно сказать, что речь идет о Мысли, Слове и Деле, которые неразрывно связаны друг с другом. Такая связь учеными называется партиципацией. Если ты правильно подумал, почувствовал, значит — ты правильно сказал, сформулировал, а следовательно — правильно сделал, поступил. И именно слово «союз» несет в себе семя такого неразрывного единства.
Интересно, что Ветхий Завет и Новый Завет можно было бы перевести и так: «Ветхий Союз» и «Новый Союз». В Ветхом Завете, написанном преимущественно на древнееврейском языке, 285 раз употреблено слово «б(е)рит», которое можно перевести как договор, обещание (обетование), союз.
Слово «союз» в названии ныне не существующего государства «Союз Советских Социалистических Республик», кстати сказать, на иврите звучит именно как «бер(и)т».
Мы не собираемся оспаривать принятое церковью каноническое слово «Завет». Просто Бог и избранный им народ Израиля, если хорошо задуматься, действительно полностью воспроизвели смысловую (семантическую), логическую «связку» русского слова «союз». Бог и народ сначала долго искали и наконец «нашли» друг друга, затем заключили завет (союз), поместив его в Ковчег Завета, и в результате этот завет-союз, согласно Библии, неразрывен, нерушим. Как в гимне СССР: «Союз нерушимый республик свободных». Или как в гимне РФ: «Братских народов союз вековой».
Надо помнить, что основание любого союза — именно взаимное чувство, духовное единение. Не случайно «рядом» со словом «союз» всегда стоят такие слова, как «со−дружество», «со−гласие», «со−чувствие», «со−вет (да любовь)» и т. д., в которых приставка «со−» несет в себе идею совместности, а корни — идеи различных положительных, добрых человеческих чувств, ценностей, элементов духовной жизни. Очень точно звучит формулировка слова «союзно» в словаре Ф. Поликарпова 1704 г.: «союзно, зри любезно». Архаично, но метко.
Само же слово «союз» состоит из все той же «со-единяющей» приставки «со−» и корня «юз»/«уз», который несет примерно то же значение, что и приставка (в этом смысле «союз» — это словно бы «смысловой аккорд», двойное тавтологическое усиление), но содержит в себе и дополнительный смысл долженствования, обещания, обязательства.
«Союз» — это действительно «добровольные узы», которые принимаются по любви, «любезно», «союзно».
Так что, как говорили наши предки, «живите союзно».
Этот корень есть во многих индоевропейских языках. В некоторых он имеет то же значение, что и в русском. В некоторых и другие. Если собрать это и другие значения, то, пожалуй, получится прекрасное описание состояния страха.
Вообще-то описать страх не так легко. Попробуйте подобрать подходящие слова. Что такое «страшно»? Есть, конечно, часто встречающиеся метафоры и эпитеты, вроде «похолодеть», «оцепенеть» и т. п. Но хочется описать страх поточнее.
Какие же значения корня «страх» дают нам другие языки? «Превратиться в лед», «стать сосулькой», «стать тугим», «растянуться», «стать прямым», «вытянуться», «опустошиться», «потерпеть поражение», «быть повергнутым наземлю», «торчать», «стать суровым, строгим». Согласимся: оригинальные, образные и точные определения.
Что такое «страх» в русском языке?
«Страх» — это прежде всего 1) сильная боязнь, состояние испуга («испытал сильный страх») и 2) то, что их вызвало («насмотрелся страхов»). Это слово может, кроме того, употребляться в значении наречия или сказуемого в значении в высшей степени, очень, очень много («страх люблю поесть!», «страх какая пробка большая!»).
Надо отметить по крайней мере два оттенка значения слова «страх».
Во-первых, это, как формулирует В. Даль, «сознание ответственности», «ручательство». Мы говорим: «на свой страх и риск», что значит «полностью на свою ответственность». Фразеологизм «на свой страх и риск» современный человек воспринимает как одно целое, и слово «страх» для нас подчас выглядит в нем каким-то даже странным, чужеродным. При чем ту страх?
Наши предки говорили: «отдать что-либо на чей-либо страх», то есть под ответственность, ручательство, под честное слово. Имелось в виду, что человек не обманет, не согрешит. Кстати, часто вместо словосочетания «страх божий», говорили просто «страх», в значении благочестие, боязнь греха.
Это высокое значение слова страх словно бы выветрилось из современного языкового сознания и «перекочевало» в область права. Еще в конце XVIII — начале XIX веков в русском языке появились производные от «страха» — «страховать», «страховой», затем — «страховщик», «страховое право».
Страховое право — конечно же, вещь необходимая. Но это — всего лишь сухая юриспруденция. Здесь не до благочестия. Жаль, «страховой полис» вытесняет «боязнь греха».
Во-вторых, у этого корня есть еще один смысловой оттенок. Воспользуемся еще раз формулировкой В. Даля. Он пишет, что страх — это «сильное опасение, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия». Очень современная формулировка, хотя ей — полтора века.
Дело в том, что современный человек действительно охвачен множеством страхов, как мы сейчас говорим, «фобий». Люди боятся потерять работу, испытывают неуверенность в завтрашнем дне, чувствуют ненависть к «чужакам», приезжим (ксенофобия), боясь, что те их вытеснят… Психологи знают десятки фобий, от «аутофобии» (боязнь одиночества) до каких-нибудь уж совсем экзотических «гидрозофобии» (страх вспотеть) или «эритрофобии» (страха покраснеть на людях). Большинство из этих страхов — надуманные, виртуальные. И тем не менее люди этих страхов «терпят поражение», «становятся сосульками» и «опустошаются».
Откуда они — эти страхи-фобии-страшилки (симптоматично, кстати, само словечко)? Может быть, как раз оттого, что страх перестает быть благочестием, ответственностью и ручательством?
Как вы думаете?
Страшная Светлана
(из комментариев к главе V «Евгения Онегина»)
«Все имена говорят».
Ю. Н. Тынянов
Так уж получилось, что пятая глава заняла в «свободном романе» центральное положение, став, фигурально говоря, «магическим кристаллом», призмой, сквозь которую — хотя и смутно — можно различить «даль» сюжета: именно здесь стягиваются нити судеб главных действующих лиц, и в такой тугой узел, что дальнейшее развитие действия может идти только по пути «разрешения» (тем или иным способом) назревших противоречий. Вместе с тем, глава эта по содержанию своему действительно «магическая»: мотив преображения, перевоплощения в ней играет исключительную по своей значимости роль. Собственно, и начинается она с картины природы, преображенной приходом зимы, которая открывается взору героини. Однако важно учесть, что речь идет отнюдь не только (и, может быть, даже не столько) об изменениях визуального порядка — это лишь одна из граней некоего универсального процесса, охватившего все стороны бытия.
Чудеса начинаются буквально с эпиграфа, предваряющего поэтическое повествование. Впрочем, обо всем по порядку.
В первую очередь отмечу, что эпиграф, предпосланный пятой главе «Евгения Онегина», содержит человеческое имя собственное:
О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана[6]!
Жуковский
Эту главу нельзя назвать особенно «антропонимически насыщенной» — по количеству использованных в ней человеческих имен собственных она занимает лишь третье место после глав I (44 антропонима) и VII и VIII (по 31 в каждой). Однако их состав и функциональность в пределах «пятой тетради», думается, существенно отличны от пушкинской практики предыдущих четырех глав. Присмотреться к антропонимической составляющей центральной главы романа заставляет и тот факт, что в наброске окончательного плана «Онегина» поэт дал ей название «Имянины»…
Но вернемся к эпиграфу. Смысл его кажется настолько «прозрачным», что в первом по времени появления полном комментарии к «Евгению Онегину», принадлежащем перу Н. Л. Бродского, он даже не рассматривается — мол, въедливый читатель, проявив минимум усилий, вспомнит и/или найдет эти строки в «избранном» В. А. Жуковского.
В. В. Набоков в своем монументальном исследовании «Онегина» счел необходимым отметить, что крестница и племянница Жуковского Александра Протасова (1797–1829), которой адресованы заключительные строфы «Светланы», «в 1814 г. вышла замуж за незначительного поэта и литературного критика Александра Воейкова, который обходился с ней жестоко и бессердечно, и она в полной мере познала „сии страшные сны“». Кроме того, комментатор упоминает о том, что в беловой рукописи сохранился планировавшийся изначально другой эпиграф, хотя и из той же «Светланы», оборванный на половине заключительного стиха второй строфы[7]: