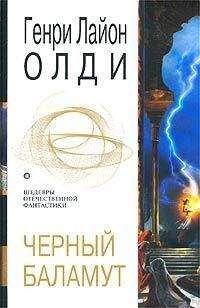отбирать у тебя всю славу. Ты тогда с прислужниками Мары рубись, с самой Марой, со всякой нечистью, что она с собой притащит. А я в сторонке постою, подожду. Постараюсь, самое главное, не ослепнуть от величия твоих ратных навыков.
Алексей смутился.
— Нет, твоя помощь понадобится, разумеется. Вместе этот путь проделали, вместе и побьём прислужников зимней богини. Должен же кто-то мне спину прикрывать?
Баламут зевнул во весь рот.
— Да я этим только и занимаюсь, — сказал он. — С первого дня, без сна и отдыха. И без нормальной пищи. Помер бы ты без меня, княжич, и глазом бы моргнуть не успел. Вот прямо с порога кабака сошёл бы, поскользнулся, в лужу бултых и потонул бы с концами. Моей опекой только и жив до сих, ношусь с тобой, как курица-наседка.
Баламут придвинулся ближе к костру, завернулся в плащ поплотнее.
— Спи, княжич, спи, утро вечера мудренее. Спасёшь ты завтра княжну, весь невыспавшийся и помятый — плохое впечатление произведёшь на свою будущую жену. Первое впечатление, оно всегда самое важное, так что смотри, не опозорься.
Алексей засмущался и опустил глаза.
— Ты правда думаешь, что пойдёт она за меня замуж?
Баламут тяжко вздохнул, укоряя себя за то, что поднял эту тему и теперь отрок просто так не уймётся.
— Язык мой — враг мой, — сказал он. — Ну, ладно, давай прикинем. Тут варианта, как мне видится, только два. Первый. Ты столь завидный жених, что батюшка княжны твоей по ночам просыпается от сладких снов, как ты его доченьку в жёны берёшь и детки ваши его потомками становятся. Каждый день он стоит у порога горницы и в щель подглядывает — не едут ли сваты от княжича Алексея, Владимирова сына? Потому что ты старший сын богатого князя, княжество ваше цветёт и пахнет, крестьяне все румяные ходят, по ночам от счастливого смеха просыпаются, рыба сама в руки прыгает, сразу жареная, коровы в день по сто вёдер молока дают. Всё так?
— Нет, — буркнул княжич. — Всё совсем не так. Вообще.
— Ага, — удовлетворённо сказал Баламут. — Тогда вариант второй. Ты её спасаешь от ужасной смерти, спасая всю Русь целиком от пришествия вечной зимы. Мужественно разишь всех недругов у неё на глазах. От восторга чувств она без сил падает тебе в объятия, приникнув румяной щекой к твоей белой груди, ты сажаешь её на серого волка, или вон, на своего серого жеребца, и увозишь её к себе венчаться скорее-скорее, пока не опомнилась.
— Хороший план, — Алексей невесело рассмеялся.
— Слушай, княжич, — спросил Баламут. — Княжна-то красивая?
— Красивая, — вздохнул Алексей.
— Эх, в тебе пропал дар гусляра, свадебного затейника, так чудесно излагаешь. Ты словами её опиши, говорю, а то «красивая», «красивая». Кому и кобыла — невеста.
Алексей побагровел, хотел гневно что-то высказать, но передумал. Он откашлялся и сказал:
— Глаза у неё голубые, как колокольчики на весеннем лугу. Волосы светлые, будто спелая пшеница. Щёки румяные, как солнце летнее, а смех у нее такой, будто ручеёк журчит, да по камушкам переливается.
— Ладно, — сказал Баламут. — Сойдёт. Такую красоту не грех спасти. Хотя тебе поменьше надо на природе гулять. Нарисовать её на песочке просить не буду, а то потом от ужаса не засну. Чую я, откуда у тебя руки растут.
— Ядом, который ты источаешь без остановки, можно целое озеро заполнить.
— Да, таланты мои безграничны, спасибо, что отметил, хе-хе.
— Баламут?
— Чего?
— Зачем ты коня Цезарем назвал?
— Сегодня что, вечер глупых вопросов?
— Нет, любопытно просто.
— Ох. Любопытство кошку сгубило.
— Не хочешь говорить, не говори, — сказал Алексей. — Только за последние дни я и пяти минут чего-то не припомню, чтобы ты рот закрытым держал, а не комментировал всё происходящее. А как мне любопытно чего стало — сразу весь из себя молчуна строишь. Давай, признавайся, почему Цезарем-то?
— Как это почему? — ответил Баламут. — Очевидно же. Чтобы люди всегда думали, мол, не знаю кто этот славный и красивый юноша, но его на своей спине таскает сам Цезарь. Стало быть и он человек не простой, а весьма уважаемый.
— Ты хоть знаешь — кто это такой, Цезарь-то?
— Понятия не имею, — не стал запираться наёмник. — То ли какой-то воин старый. Из хазар, возможно, или из древлян. То ли колдун ромейский. Какая разница, знаю ли я, если знают все остальные, кому надо?
— Баламут? — спросил княжич.
— Чего тебе ещё? — спросил наёмник.
— У тебя самого-то папка с мамкой были?
— Умеешь ты разить внезапными вопросами, как копьём в бочину. Конечно были, куда без этого. Понимаешь, малец, когда мужчина очень любит женщину, они сначала женятся, как приличные люди, а вот потом. Пото-о-о-м…
— Да знаю я это всё, — мотнул головой Алексей. — Я тебя о другом спрашиваю — ты своих родителей-то знаешь?
— Ах, это. Нет, княжич. Не знаю. Не помню. Так-то были они, конечно. Да только кто они, кем были, как звать — не припомнить, как ни силюсь. Ничего. Пустота. Даже родился где, в каком княжестве, и того не упомню. Ни роду, ни племени, одно имя только. Да и оно — не моё может, а сам себе придумал в один момент, поди знай. Бродяжничал я, сколько себя знаю, один-одинёшенек, да только и всего. Попрошайничал, воровал, обманывал.
Баламут развёл руками.
— Вот и вся моя жизнь. Ты мне только руки не руби, за воровство, знаю я ваше княжье племя, хлебом не корми, дай кому руку отрубить за любой пустяк.
Стемнело, на небе высыпал мириад звёзд, костёр двух путников понемногу угасал.
— Подвёл я Фёдора, — сказал Алексей.
В его голосе слышалась неприкрытая тоска и горечь.
— Почему это? — спросил Баламут.
Алексей долго мялся с ответом, но всё же заговорил.
— Он из меня воина пытался растить, как мог. Только не вышло ничего. Не воин я. Нету у меня мышц крепких, рук сильных, и бесстрашия нужного. Одно пузо только с собой ношу и робость вечную. Фёдор, земля ему пухом, был хорошим наставником. И на коне ездить меня обучил и мечом рубить и копьём колоть. Великий был мастер, что даже такого бездаря, как я, чему-то научить смог. Отец-то мой противился этой науке.
— Почему?