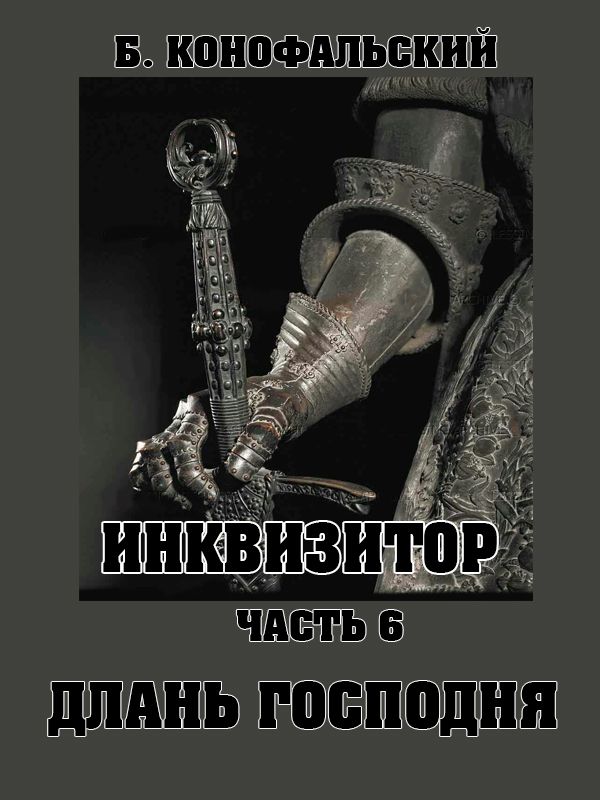оскорбления моего сеньора, я буду вынужден расценить ваши дерзости как своё личное оскорбление.
— Ах, вот как! — С пренебрежительной усмешкой воскликнул фон Финк. — У нашего героя нашёлся чемпион! Купчишкам как без охраны жить?
— Замолчите, капитан, — продолжал фон Клаузевиц очень твердо и сделал шаг к капитану, — господин Эшбахт не имеет права с вами драться, но я имею. И если вы не прекратите свои оскорбления, я убью вас.
Голос и поведение молодого человека были так явны, так серьёзны, что фон Финк не решился больше рассыпать оскорбления. Он посмотрел на собравшихся офицеров, на Клаузевица, на Увальня, поклонился едва заметно и пошёл прочь, даже не глянув на Волкова.
Солдаты, что наблюдали перепалку, стали тоже расходиться переговариваясь. А вот Волков ещё стоял и стоял, глядя в спину удаляющегося капитана. Слишком было сильным оскорбление, чтобы он его позабыл так сразу. Конечно, об этом и речи быть не могло.
— Бросьте, кавалер, этот напыщенный дурак даже не понимает, что едва не лишился жизни, — начал было успокаивать его Бертье.
— Оставьте это, Бертье, — ответил Волков таким тоном, что ротмистр поклонился и быстро ушёл.
Впрочем, сам он не понял, почему, но он очень быстро успокоился. Нет, не забыл. Как такое оскорбление, нанесённое при его людях, можно вообще было забыть. Но вот уже через пару минут кровь больше не вскипала, приливая к лицу, красными пятнами, а злоба уже не захлёстывала его волнами вместе с приходящими неприятными воспоминаниями. И он, кажется, даже был благодарен, что в распрю вмешался это молодой наглец Клаузевиц, который набрался смелости касаться его руки и останавливать его меч в такой серьёзный момент.
Нужно было бы, конечно, поблагодарить молодого рыцаря, но то, что он осмелился остановить руку сеньора… это перечёркивало всю его заслугу. Волков просто ничего ему не сказал. Ни упрека, ни благодарности. А Увальню и Максимилиану сказал:
— Господа, мне пора снять доспех.
***
Когда лагерь, наконец, снялся, капитан фон Финк со своими солдатами полчаса как ушёл, а люди Волкова становились в походные колонны, чтобы идти домой, Волков уже почти забыл про инцидент. Уже и ругань та казалась ему вздорной, а оскорбления не казались столь обидными. Если не воспоминать про деньги и обман, так можно было и забыть всё.
Да разве можно забыть про деньги, когда они нужны всё время. Волков глядел на солдат, что встают в колонны за обозом и понимал, что каждый из них ждёт от него хоть немного серебра. Не зря же они бросали свои хлипкие лачуги, тяжёлую работу на обжиге кирпича, бросали своих женщин и тащились в эту даль по мокрой глине, ночевали в сырости. И стояли в неприятном ожидании, глядя на противника и думая, решится ли он на атаку или нет. Да, каждому нужно будет дать хоть по четверти талера. А их тут двести сорок человек, не считая сержантов. Иначе в следующий раз, когда будет нужно, очень-очень нужно, они просто не пойдут.
Волков вздохнул. Нет, про деньги он никогда не забывал. Ему такая возможность просто не представлялась.
Тем не менее, садился на коня кавалер, разоблачившись от доспехов, с радостью предвкушал, как вскоре будет у себя и примет такую долгожданную и горячую ванну. Неделя в хлопотах и долгих скачках, ночи в грязных трактирах с клопами и сон в доспехах, признаться, утомили его. Но опять Волкова радовало то, что хоть и старше он всех молодых людей из его выезда, но на коня он садится легче, чем они. Хоть и нога его изводила, но сил и прыти у него больше, чем у них. Что там ни говори, а если человек смог прожить двадцать лет в солдатах и гвардейцах, если не помер от тяжкой жизни, от чумы, чахотки, оспы или кровавого поноса, если не скрючил его жар от гнилых ран, если не доконали его другие болезни или увечья, то любому молодому он не уступит ни в выносливости, ни в неприхотливости. Это уж точно.
Волков ждать солдат не стал, их офицеры повели, а он поехал домой со своим выездом.
Ехал, не чувствовал боли в ноге, а о распре с капитаном и о том, что горцы придут, о том, что герцог разозлится ещё больше, даже вспоминать не хотел. Был в самом хорошем расположении духа, хоть и вымок весь, пока доехал из-за непрекращающегося дождя.
Как приехал, так сразу в дом. А там жена и госпожа Ланге за столом с рукоделием. Он берет кинул на комод, скинул плащ, а сам к женщинам:
— Здравствуйте, добрые госпожи.
Госпожа Ланге сразу вскочила, начала книксены делать, кланяться, румяна стала, рада его видеть:
— Ах, господин, вы! Распоряжусь обед подавать немедля.
— Воду греть велите, — говорит ей Волков.
— Распоряжусь, — снова сделала книксен Бригитт.
А жена смотрит на него как на мужика какого-то дворового, не муж приехал, а не пойми кто, сама от шитья не отрывается, только лишь сказала:
— Здравы будьте, господин.
Хорошо, что хоть помнит, кто он тут есть. Кавалер подходит к ней сзади, кладёт руки на плечи ей, спрашивает у жены:
— Ну, как вы тут?
А она глаза от рукоделия отрывает, голову к нему чуть поворачивает, носик морщит и отвечает:
— Вы никак убить меня решили?
— Что? — Не понимает Волков. — Убить?
— Отступитесь от меня, не то задохнусь от вони вашей, — говорит госпожа Эшбахт и всё морщит носик. — Несёт от вас конюшней, словно конюх какой, и живёте там среди коней.
— Конюх? — Удивляется Волков. — Живу, говорите, там?
— Конечно, конюх, не иначе. Отступитесь от меня, а то от духа вашего глаза режет. — Высокомерно говорила жена.
Он вдруг берёт её рукоделие и вырывает его из женских рук. Бросает его на стол. И при этом снова спрашивает:
— Значит, конюх?
— Чего вам? — Зло восклицает жена.
— Ничего, — говорит господин Эшбахт, крепко беря госпожу Эшбахт за локоть и вытаскивая её из-за стола. — Просто весь день меня оскорбляют, то купчишкой зовут, то конюхом.
— Да что вам надо? — Пищала Элеонора Августа.
Госпожа Ланге смотрит удивлённо, как господин Эшбахт неучтиво тащит супругу свою вверх по лестнице. Тащит её без сожаления всякого, едва ли не за волосы. А та причитает:
— Не хочу я, зачем вы так грубы? Да что вам нужно от меня?
— Ничего такого, что противно было бы законам Божьим и людским. — Едко посмеиваясь, отвечал ей Волков.
Он затолкал жену в опочивальню, она вырваться пыталась, да куда там. Кинул он её на кровать, лицом вниз, чтобы едкий запах конюшни, не так терзал