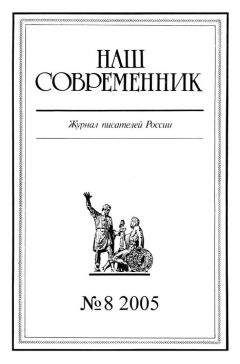Возвращаясь к словам Б. Н. Лосского о клюевском «голосе благочестивого странничка», думаешь невольно о том, как часто современники бывали несправедливы к поэту-страннику, который действительно «избраздил весь край». Есенин, сказавший так о Клюеве, признавал, что «олонецкий знахарь хорошо знает деревню». «Это были не фразы», — вынужден был согласиться И. М. Гронский, приводя слова Клюева: «Я самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора, я самый крупный знаток древней русской живописи» (альм. «Минувшее», М.; СПб., 1992, [вып.] 8, с. 149). Тем не менее Клюева то и дело подозревали в обмане и мистификациях, обвиняли в ханжестве и лицемерии, в хитрости и коварстве…
Так, объявляя Клюева своим «врагом», Есенин пишет Иванову-Разумнику: «Я больше знаю его, чем Вы, и знаю, что заставило написать его „прекраснейшему“…» [7, т. 2, с. 76]. Выходит, что посвящение «прекраснейшему из сынов крещеного царства, крестьянину Рязанской губернии поэту Сергею Есенину», предпосланное стихотворению «Оттого в глазах моих просинь…», — это некая клюевская хитрость, лицемерная уловка? Вовсе нет! Для Клюева это определение было устойчивой формулой: так обращался он к «словесному брату» в дарственной надписи на своей фотографии; так называл Есенина и в тех случаях, когда писал о нем другим лицам. В частности, отправляя полковнику Д. Н. Ломану весной 1916 года «О песенном брате Сергее Есенине моление» (вследствие чего Есенин был спасен от «отправки на бранное поле»), — Клюев начинал свое письмо теми же словами: «Прекраснейший из сынов крещеного царства…». В конце 1916 или начале 1917 года поэт писал Александру Ширяевцу о «Сереженьке»: «Как сладостно быть рабом прекраснейшего!». Таким образом, только искреннее восхищение и глубокая любовь к «сопесеннику» заставили Клюева написать слова, в неискренности которых Есенин пытался убедить Иванова-Разумника.
* * *
«Свидетельства современников редко бывают бескорыстными», — замечает Б. А. Филиппов [11, с. 61]. Это касается многих карикатурных описаний Клюева. Со второй половины 1920-х годов вошло в привычку открыто глумиться над «идеологом кулачества», которого «можно было только ругать или окарикатуривать…» [11, с. 124]. К имени поэта прирастает постоянный эпитет: «елейный Клюев», чем подчеркивается якобы фальшивое благообразие его облика и речи. И даже сам Б. А. Филиппов упоминает о «елейном псевдомужицком стиле» писем Клюева «с простонародными словесными завитушками и концовками» [11, с. 57].
Однако современные исследователи, историки старообрядчества, отмечают, что в письмах Клюева «совершенно явственно чувствуется народная основа его личности»; эти письма свидетельствуют, «сколь неистребимо сохранялась этикетность мышления и поведения русского крестьянина» (Е. М. Юхименко [8, с. 10, 11]).
Закономерно, что в крестьянской среде Клюев не казался «елейным», а его речь — «псевдомужицкой» (особенно в таком словесном оазисе, каким было Поморье!).
У себя на родине, среди своих, да еще в шумной ярмарочной толпе, притворяться было бы неуместно и бессмысленно. Но можно было живо ощутить себя «балаганным дедом», чтобы передать толпе умиление, вызванное искусством «рукомесленного» земляка, — передать в узорной, складной, цветистой речи. Вот как рассказывает об этом эпизоде В. А. Соколов:
«Впереди нас встал худощавый мужчина среднего роста в серой колоколом шляпе. Умильно поглядывая на токаря-умельца, стал говорить распевно:
— Боженька-надоумник надоумил мужичка такую красоту, лепоту уладить: избу-матушку с хозяином добрым, с хозяюшкой расторопной, с малой младеней выказать. Это всё не пошто, не зряшно. Вяжись, неводок, длиннее, прядись, ленок, живее, гляди, мужичок, веселее!».
«…За ретивое кажинного человека красным умильным словом задеть» — так объяснял Клюев землякам смысл искусства словесного в 1919 году, выступая в Вытегорском красноармейском клубе перед спектаклем «Мы победим». Пьеса была «из современной революционной жизни» — Клюев же рассказывал о «сладости сердечной», о «потайных словах» народного искусства. О том, как прежде «люди с душевным ухом» «баяли баско, складно да учестливо», отчего и назывались «баянами», — «ныне же тех людей величают поэтами». Рассказывал о том, как триста лет назад простой мужик («а нутром баян-художник») придумал, как «из вытегорских брёвен мысль свою выстроить», срубить церковь «на нашем Вытегорском погосте»… Наконец, о том, что ныне «умерла тиха-смирна беседушка, стих духмяный, малиновый», что «народ душу свою обронил, зверем стал и окромя матюга все слова из себя повытряхнул».
И в устной беседе, и в письмах, и в своей публицистической деятельности Клюев неизменно был верен этой сформулированной им задаче: «за ретивое кажинного человека красным умильным словом задеть». При этом крестьянская «этикетность» мышления, просторечные формы, сказовость повествования свободно сочетались с элементами проповеди, духовного завещания, толкования, жития — с сохраненным в старообрядческой культуре наследием древнерусской книжности. И это, безусловно, не «стилизация» — это узнаваемый, яркий авторский стиль, сохраняющий метки многослойной словесной культуры русского крестьянства, в том числе всей старообрядческой и сектантской письменности (а не только творений Аввакума и выговской литературной школы).
Любопытный образец «елейного стиля», сочетающего архаизмы и современный язык «в пародии самоунижения», представляет собою письмо «бедного писателя-крестьянина», скопца с 9-летнего возраста Никифора Латышева. Он написал его Сталину из дома престарелых в конце 1930-х годов. Анализируя этот документ, современный американский историк расценивает послание Латышева, несмотря на раболепный его тон, как осуществленную духовную миссию. «Написанное в классической манере скопцов, последнее письмо Латышева соединяет заботу моралиста о достойном поведении в этом мире с жаждой святого к милосердию» [12, с. 272] и свидетельствует о том, что автора интересовала «не политика, а культура письма». «Слово Божье было связано с производством и реализацией метафор. Язык священных духовных стихов и священных историй, „глаголы“ коллективной молитвы, свод святых преданий (…) связывали верующих воедино. Любили они и формы выражения, которые должны выйти за пределы обыденного» [12, с. 276, 277].
Думается, что подобные примеры также помогут нам осмыслить нестерпимую для немалого числа современников и якобы фальшивую «елейность» Клюева.
* * *
Впрочем, бывал он и суровым, и пугающе-молчаливым: испытуя собеседника, мог заставить его часами говорить в одиночку (даже Блока!), умел говорить, как скоморох, и поучать, как профессор. Умел слушать, понимать и помогать. Мог быть даже простым и немногословным, когда дело касалось помощи друзьям — например бедствовавшему О. Э. Мандельштаму. Так, Э. Герштейн передает рассказ Н. Я. Мандельштам о том, как однажды в конце 1920-х годов явился к ним Клюев (сам нищий), «…как-то странно держа в оттопыренной руке бутербродик, насаженный на палочку: „Всё, что у меня есть“» (Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998, с. 21).
Но этот нищий странник, ночевавший у знакомых и ходивший «по обедам», становился неузнаваемым, когда читал свои стихи. Э. Герштейн вспоминает, как Мандельштам с юным Львом Гумилевым «вернулись домой оживленные и возбужденные: только что заходили к Клюеву. Осип Эмильевич цитировал его стихи и показывал, как гордо Клюев читал их. Широкие рукава рубахи надувались, как воздушные шары, казалось, Клюев плывет под парусами» (там же, с. 49).
Плавание «под парусами» Слова совершалось непрерывно, и в этом плавании (а не в мутных водах моря житейского) Клюев был неизменен. «Себя настоящего» он отождествлял лишь с этим плаваньем:
Это тридцать лет словостроенья,
Плешь как отмель, борода — прибой,
Будет и последний китобой —
Встреча с розою — владычицей морской
Под тараны кораблекрушенья.
Вот тогда и расцветут страницы
Горным льном, наливами пшеницы,
Пихтовой просекой и сторожкой…
Как вспоминает Н. Ф. Христофорова-Садомова, «сокровенное творческое состояние» было для Клюева, «как он говорил, не второй его натурой, а первой, и в нем он находился почти непрерывно, даже во время сна».
О. Д. Форш, наблюдательная и точная в описаниях, заметила о Клюеве: «В восторге же стиха пребывал непрестанно. (…) Когда стих вызревал, он читал его где и кому придется. Читал на кухне кухарке и плакал. Кухарка вскипала сладким томлением и, чистя картошку, плакала тоже». Впечатляюще изображено писательницей и действие «Микулы» на интеллигентных слушателей: «Он вызывал и восхищение, и почти физическую тошноту», — ощущение бессилия перед «дурманным вихрем».