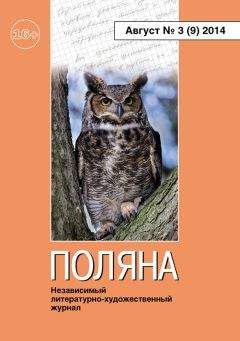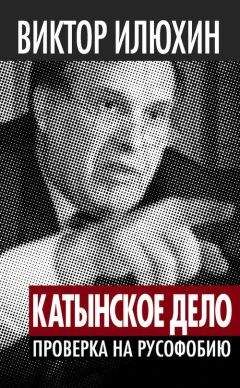Одна бутылка опрокинулась, водка залила газету.
«А для кого-то эта газета — доказательство исключительности, свидетельство славы», — подумал я с тоской.
Все торопились напиться, так как по тревожным слухам вскоре должны были «начать разгонять». Пропитой до цвета вареного рака дедок, жизнь в котором, казалось, уцепилась за торчащие из ноздрей пучки щетины, дрожащей рукой налил мне полстакана водки. «В общем, вполне радушные люди», — подумал я, выпил, посидел еще немного и ушел в крайнем смущении.
— Никакой сатиры, — напутствовал меня седой председатель. — Все и так знают, что хорошо, а что плохо. Ты иронию давай, юмор…
Пророков открывал мне глаза.
— Сейчас в литературе есть две группировки, — говорил он. — Еврейская и русская. В еврейской с тобой говорят, но не печатают, а в русской с тобой и не говорят, и не печатают. Сволочи! За целый роман мне предлагают всего две тысячи рублей, это по нынешним временам семьдесят долларов. Я им говорю: «Пошли вы на хрен! Гады!» Вообще, литература сейчас разделилась на блатную и рыночную. Раньше была только блатная, рыночной не было, рыночная выросла из самиздата, попсы и детективов. Блатная, она же номенклатурная, варится в собственном соку. Это, как тебе сказать, по сути, окололитературная гниль, захватившая литературные пьедесталы. Хе-хе… Она никого никуда не пустит. Она оберегает свое благополучие и страшится разоблачения. Она пишет сама для себя, сама себя печатает и издает… Вторая — рыночная, — зарабатывает деньги торговлей. Развлекать — вот что требуется! Это продается! Кто хочет развлекаться порнографией — пожалуйста — десяток авторов на любой вкус! Приветствуются извращения! Детективчики? Еще лучше — сотня авторов! Мистика? Нет отбою! Все что угодно! Издательства не гнушаются плагиатом. Украдем за границей и перепишем. Кто в Россию сунется с иском? Имена героев изменены… Ну и все!
А новорожденные союзики раздирали мосластую тушу прародителя. Писательские дачи, дома творчества, санатории, особняки, кабинеты, стулья, письменные принадлежности — все растаскивалось по углам и под шумок перетекало в чьи-то ловкие руки.
Драка шла свирепая и затяжная. Кому не досталось ничего, кроме пары кабинетов в старинном особняке, один из которых непременно сдавался в аренду какому-нибудь турагентству, бился хотя бы за славу. Так союз периферийных писателей наскоро слепил перечень «лучших поэтов России», поместив своего председателя Плюхина во главу списка, много выше Ходасевича, Ахматовой и Мандельштама… при этом ссылаясь на некий институт независимых экспертиз. Видимо, Плюхину так захотелось остаться в истории, что, решив не дожидаться суда времени, он сам осудил себя на бессмертие.
Другая известная поэтесса и председатель союза выдающихся писателей, не включенная по известным причинам в упомянутый рейтинг, устраивала для всех желающих еженедельные поэтические вечера в Доме литераторов, дабы привлечь на свою сторону группу буйно помешанных окололитературных бродяг. Клинически нездоровый контингент был незаменим на митингах и при осаде различных администраций. Но помешанные не желали участвовать ни в каких иных мероприятиях, кроме тех, на которых они могли бы прочесть свои чудовищные вирши. Они, как стая галок, носились с одного литературного сборища на другое, всюду стараясь пролезть вперед других и, откричав, не слушая более никого, уносились к очередному Парнасу.
А ведь когда-то я думал, что литература — занятие избранных!
Таких оборотов, которыми изъяснялся поэт Плюхин, я не слышал даже в самой грязной подворотне. В приватной беседе он честно признался мне, что не так давно был прорабом, но вот теперь сменил кирку на лиру.
Когда я был у него, в кабинет то и дело заваливались какие-то мутноватые хлопцы, увешанные золотыми цепями и браслетами толщиной в палец. На прощание меня делегировали представителем их союза в «Наших сетях» и для солидности обещали выдать какой-то мандат, очевидно считая, что этим облагодетельствовали сверх всякой меры.
Какой-то сумасшедший, похожий на Мазепу старик, носился по холлам Дома литераторов, утверждал, что он издатель, совал всем какие-то газеты, а после, тыча кривым пальцем в жирные строки на последней странице, предлагал написать лучше. «Даю сто баксов! — пронзительно кричал он. — Тому, кто напишет лучше!» Как ни странно, всегда находилось до пяти желающих. За время их стараний сумасшедший вновь обегал холлы, отбирал газеты и исчезал в неизвестности…
Один матерый писатель, по проторенной еще Чернышевским стезе, подался в революционеры. Его непременно испуганное лицо замелькало на телеэкранах, особенно часто после того, как чудака препроводили на нары.
По вечерам в метро можно было встретить неряшливо одетых взлохмаченных молодых людей, с красно-черными повязками на рукавах, которые, выпростав руку вперед на манер нацистского приветствия, требовали вернуть свободу вождю и в знак солидарности купить газету «Фугаска».
Как же так? — думал я. — Почему руководителями творческих союзов становятся бывшие прорабы, а их окружение состоит из бандитов и отставных чекистов? По въевшейся привычке писать отчеты, они теперь пишут статьи и повести для газет и журналов…
Пророков казался мне именно тем человеком, который сумеет провести меня по таинственным тропам к вершинам славы и успеха. Его неистовое православие вселяло добрую надежду. Поэтому я всячески старался приблизиться к нему и немало в этом деле преуспел.
Любимым занятием Пророкова была рыбалка. И я, обзаведясь удочкой, разыгрывал из себя заядлого рыбака. На самом же деле более скучного, вредного, если не сказать противного занятия мне трудно себе представить. Копать глину, ссохшуюся как антрацит, в поисках заблудших дождевых червей, возиться с леской, мерзнуть у воды, наконец, тянуть несчастную рыбу, вырывать из ее нутра вместе с кишками колющий пальцы рыболовный крючок и изображать при этом бурную радость. На это способны либо помешанные, либо такие лицемеры как я…
Однажды Пророков позвал меня на форум детских писателей. Собрались редакторы известных детских журнальчиков. Как водится, читали то, что, по их мнению, следовало читать детям. За редким исключением это были самые бредовые бессмыслицы. Например, один из них сочинил агитационную политстрашилку, о том как коварные американцы закидывают нас из космоса маленькими иголочками, которые, попадая в мозг детишек, превращают их в русофобов. А редактор «Детских шарадок», патлатый крендель с походкой жирафа, выдал душераздирающую историю о фокуснике, который натурально распилил свою ассистентку, а она из любви к нему тихо истекла кровью, не выразив на лице и тени страдания. Кровь хлестала в первый ряд и во все возможные стороны, но фокусник был счастлив — ведь это был первый в его жизни удавшийся фокус… Третий редактор жаловался, что вот он, мол, всех уважаемых присутствующих в зале литераторов в своем журнале печатает, а его ни одна сволочь печатать не хочет. И все кокетничал и лукаво на всех поглядывал. Но на него смотрели свысока и звали по фамилии.
В литературе всем хочется попасть в старики. Разница в десять лет словно дает право на покровительственное обращение в духе: «А мы, тут, знаешь, по-стариковски… так сказать…» Тот, кому немного за сорок, напуская на себя важность и принимая вид мэтра, снисходительно похлопывал меня по плечу. А тот, кто старше его, в свою очередь, кивал ему, как мальчишке.
Пророков разругался с «Нашими сетями» и ждал, что я поступлю так же. Но я и не собирался. Тогда он назвал меня неблагодарной сволочью, которую ему, дескать, подсунули.
— Ты что! — кричал он мне по телефону. — Такими людьми, как Пророков, не швыряются! Я тебя привел, а ты… Как ты мог? Теперь я вычеркнул тебя из своей жизни!
По-видимому, это должно было означать, что путь в литературу мне отныне заказан. Оставшиеся дни я должен был влачить в тоске и позоре. Подумать только, сам великий Пророков глухой стеной застил мне солнце.
Пророков был немногословен.
— Знаешь, что такое баррикады? — спросил он меня по телефону. — Ну так вот, мы с тобой теперь по разные стороны…
В чате он называл меня перебежчиком, советовал быть со мной начеку, наплел про какой-то паровоз, который тронулся в путь, взяв с собой уйму пассажиров и хорошего мальчика. Мол, мальчик всем понравился, красивый такой, умненький. И вот паровоз мчится от станции к станции по лесам и просторам, и садятся в него новые люди, и прицепляются к нему составы и вагоны, и грузятся в эти вагоны разные грузы, и мчится паровоз дальше, к светлой своей цели. А когда добрался наконец до волшебного города, стали искать мальчика, а мальчика-то и нету. Сгинул мальчик. Исчез и следов не осталось. То ли сожгли его за нехваткой дров в топке, то ли скинули втихаря под откос, то ли сам спрыгнул — неизвестно…