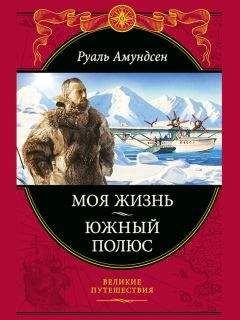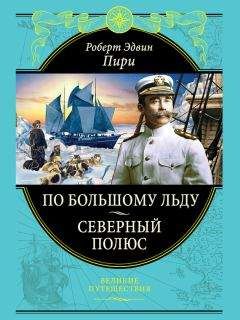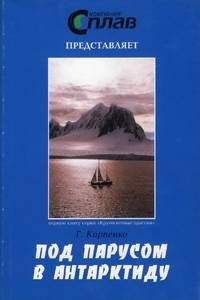Тойон-арыы
Булгуннях-тах — странный поселок. Несколько рядов изб тянутся вдоль Лены на шесть километров.
— Ты знаешь, что здесь живут ямщики? — спросил Аркадий.
— Ямщики?
— Потомки ямщиков, — уточнил Гаврил. — Но мы зовем их «ямщиками».
Машина свернула и остановилась.
— Сейчас ты увидишь одного из них, — подмигнул Гаврил. На крыльцо дома вышел молодой якут.
— Это ямщик?
— Нет, — засмеялся Гаврил. — Это зять ямщика, Алексей. Он будет нас сопровождать до Столбов.
— А как отличают ямщика от неямщика? — спросил я.
— Очень просто, — ответили разом Гаврил с Аркадием, — потомок ямщиков — это тот, кто выглядит как русский, а называет себя якутом...
Это была, конечно, шутка, но в ней отразилось одно любопытное обстоятельство. Еще в прошлые века было отмечено, что русские, осевшие в Якутии, очень быстро переходили на якутский язык, а в следующих поколениях большинство уже плохо понимало по-русски. Это касалось не только ямщиков, но и казаков, крестьян и многочисленных ссыльных, коими во все времена и при всех режимах была богата Якутия. Старинные казачьи роды, породнившиеся с якутами из-за недостатка русских женщин, перенимали якутский язык и якутский образ мыслей. В свою очередь якуты быстро усваивали русский быт и жизненный уклад. Происходило удивительное взаимопроникновение культур.
Перед заходом солнца я прошелся по деревенской улице: добротные дома прятались за высокими, часто глухими заборами. Солидный русский сруб, способный лучше противостоять морозам, давно заменил здесь традиционную якутскую избу из вертикально стоящих бревен (так было проще использовать разнокалиберный лес). Впрочем, полного сходства с русскими, точнее сибирскими, деревнями не получилось. Странная особенность бросалась в глаза. У некоторых домов крыша выглядела как бы недостроенной: она состояла только из двух скатов, предохраняющих от дождя, а оба шипца (или фронтона) отсутствовали. Причиной этого архитектурного «чудачества», вероятно, были те же самые чудовищные морозы, которые вообще «отняли» у большинства якутских деревенских домов вторые этажи (тепло ведь, как известно, стремится вверх). Капитальный одноэтажный сруб, наглухо проконопаченный, с невысоким потолком и русской печью посередине — так выглядит в Якутии цитадель домашнего тепла и уюта. Но главная деталь, позволяющая безошибочно отличить якутскую деревню от русской, — это «хотон», якутский хлев, конструкция которого сохранилась практически в первозданном виде. В каждом дворе Булгуннях-таха я видел это приземистое, напоминающее блиндаж сооружение. Сложенный из бревен и жердей, обмазанный снаружи толстым слоем коровьего навоза — этого лучшего и дешевейшего естественного теплоизолятора, — хотон обогревается исключительно собственным теплом скота и позволяет героическим якутским коровам и свиньям пережить-перестоять убийственные морозы. Зато летом у коров — вольная воля на окрестных лугах, без пастухов. К дому они подходят лишь к вечеру.
Сняв обувь в пахнущих молоком сенях, я зашел в дом ямщика. Женщина-якутка пригласила к столу. Мои спутники ждали меня. Якутский обед — городской или сельский — прост и традиционен. Прежде всего, это мясо. Вареное или поджаренное, но с избытком. Затем почти всегда (по крайней мере, летом) тугу-нок — маленькая, размером с кильку, рыбка из рода сиговых. Ловят ее неводом, сразу солят, через несколько часов тугу-нок готов. Также всегда на столе сметана, всегда чай с молоком. Но самое любимое угощение — это взбитые сливки. Молоко якутских коров необычайно жирное, поэтому сливки взбиваются буквально за пару минут (делают это вручную специальной деревянной мутовкой, которую крутят между ладоней). К сливкам всегда добавляют варенье. Самое разное, потому что нет такой ягоды, которая бы не встречалась здесь в изобилии.
Когда, наевшись, мы встали из-за стола, дверь распахнулась, и в комнату вошел мужчина с чисто русской внешностью.
— Федор, хозяин дома, — представился он.
Федору Шилову — сорок лет, и ни он, ни его отец, конечно, не имели к ямщицкому труду никакого отношения. Но дед, если не до революции, то в двадцатые-тридцатые наверняка гонял по зимнику почтовых лошадей, уходя из дому ранней осенью, а возвращаясь поздней весной...
Ямщина возникла на Лене в сороковые годы XVIII века, во время знаменитых экспедиций Беринга. Главной транспортной артерией был тогда Охотский тракт, по которому из Якутска в Охотск доставлялись грузы и донесения, предназначенные к отправке на Камчатку, а позже и далее — к американским берегам. Тогда-то и возник Тойон-арыы — поселок ямщиков, в котором родился и вырос Федор Шилов и которого уже лет двадцать как нет на карте. Увы, известная кампания укрупнения населенных пунктов, прокатившаяся по Советской России в семидесятые годы, подписала приговор поселку, простоявшему на берегу Лены около трехсот лет. Последними в Булгуннях-тах перебрались родители Федора.
Поселок, в котором никто не живет, — мертвый поселок. Но постепенно у меня стало складываться впечатление, что поселок ямщиков как бы жив. Наш разговор, будто заколдованный, все время возвращался к нему. Тойон-арыы постоянно присутствовал в мыслях моих собеседников. Загадочный поселок интересовал меня все больше и больше, но, к сожалению, из молчаливого Федора мало что удавалось выудить. К тому же он предпочитал изъясняться по-якутски, а мои робкие просьбы переводить на русский необычайно веселили якутов. Выяснилось, что два года назад поселку исполнилось 250 лет, что тогда у брошенных изб собрались все ямщики, чтобы отметить юбилей, а нынче эти ямщики на сенокосе, а сенокос на острове, который называется Тойон-арыы. Я немного запутался, но мне объяснили, что Тойон-арыы в переводе и означает «главный остров», а поселок носит название острова, потому что находится напротив него.
— Хорошо, — смирился я, — с ямщиками встретиться не удастся, но могу ли я взглянуть хотя бы на поселок?
— Разумеется, — был ответ, и мы впятером, вместе с Федором и его зятем, погрузились в машину.
То был якутский вариант «Кэмел-трофи» — как мы в полной темноте добирались до Тойон-арыы по берегу Лены. Справа была скала, слева — вода, а впереди, в прыгающем свете фар, — узкая булыжная мостовая природного происхождения. Как мы не лишились колес, как не потеряли глушитель, как вообще не перевернулись, когда «мостовая» вынесла нас на скалистый уступ, — не знаю. Но мы доехали.
На фоне погруженных в темноту скал стояли три еще более темных сруба с абсолютно черными провалами окон. «Неужели это и есть поселок?» — подумал я. Мы собрали плавника, развели костер, достали еду, бутылку водки.
Полная луна поднялась над Леной, посеребрила воду. Напротив нас чернел берег острова Тойон-арыы, на котором ямщики косили траву для своих коров. Два слабых огонька означали, что на острове тоже есть избы, только жилые.
— Смотри, — тихонько сказал Аркадий. — Федя будет кормить огонь.
Я оглянулся. Федор, примостившийся у костра, открыл бутылку, отлил немного водки в кружку и плеснул на огонь. Тот полыхнул в ответ.
У нас даже горожане кормят огонь, — словно извиняясь, сказал Аркадий.
— Для чего?
Аркадий замялся.
— Через огонь кормят местного духа, — ответил он, — задабривают...
— Обязательно водкой?
— Нет, любой пищей: что сам ешь, тем и огонь кормишь.
Мы выпили за ямщиков, за Тойон-арыы, за Федора Шилова и его семью. Костер потихоньку догорел. От реки потянуло совсем не летним холодом, и трудно было представить, что днем мы изнывали от жары.
— Ну, поехали? — встрепенулся вдруг Федор.
— Куда? Обратно?
— Наверх. Ночевать.
Старая, местами размытая колея вела вверх по склону крутого оврага. Вначале фары выхватывали одни стволы и рытвины, потом лес кончился, и на обочине замелькали странной формы камни. Я присмотрелся: да это же надгробья! Еще, еще, и вдруг из-за них наперерез машине какие-то белые громадные существа! Невольно захолонуло, но я успел разглядеть: лошади! Машина натужно взревела, преодолевая последние метры подъема, и встала. Вокруг, насколько хватало лунного света, виднелись остовы изб. Мы находились в центре поселка.
Изба, в которую нас привел Федор, была пригодна для ночлега. Несколько поленьев, сгоревших в печке, быстро прогрели сруб, и тепло в нем держалось до утра.
Я проснулся от шороха за стеной: кто-то ходил под окнами. Сквозь полиэтилен, заменивший стекло, проникал солнечный свет. Я вышел наружу: избу окружал лошадиный табун...
Приземистые, круглобрюхие, с длинными, до земли, хвостами, лошади казались какими-то особыми существами, населившими покинутый людьми поселок. Впрочем, они и на самом деле не были обычными лошадьми. Я вспомнил, как Петр Лазарев, палеонтолог, директор Музея мамонта в Якутске, рассказывал мне о древнем происхождении якутской лошади. Возможно, именно тысячи лет дикой таежной жизни воспитали столь независимый и стойкий характер: она и сегодня круглый год ходит сама по себе небольшими табунами, лишь изредка наведываясь в родные места. Выносливость ее поразительна: сотни верст без пищи и отдыха способна преодолеть рядовая якутская лошадь! «Сытый всадник и голодная лошадь — хорошая пара», — гласит якутская пословица.