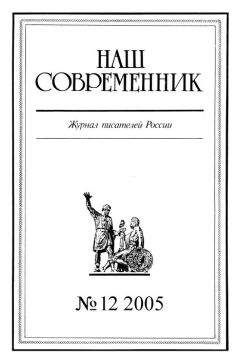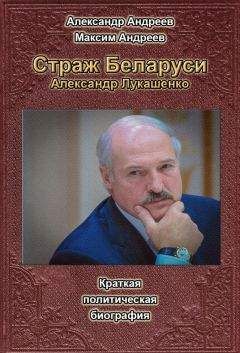Когда наступит конец света (К. С.), мы, должно быть, не встретимся. Но за Вас может предстательствовать тысячелистник, например, — а что успею я за оставшиеся дни, когда одно лишь яростное созерцанье?..
Зачарованно-дурацкая, но какая-то очень интересная жизнь, —
и вот уже:
При дверях…
(?)
Ходите ли Вы в церковь — или, как я: вечно собираюсь и всё представляю, как «будет тепло мерцать…»?
Я зову — письмом Геккерену, п. ч. главное, что я там говорю: что эта страна — моя, а не его, и речь идёт о всей гнусности его литературного пути, и я казню всю свою прежнюю любопытствующую слабость. Что бесы лишены дара творенья (творчества). Что бесконечная личная низость, жадность и ложь его делают уж невозможным совсем — общаться, даже ради книг (которые — все — «давно отняты „народными поэтами“ и диссидентами»); что нарочно, нарочно всё подменяется: варварской диктатурой — Империя, ибо каждый буржуа в душе непременно мечтает об Империи — как о праве на родовитость. Что он понятия не имеет о том, что такое родина, если галдит — из всех телевизоров — о ней только одно:
«Индевеют штыки в караулах Кремля»1, —
весь этот пафос индевения и склочной драмы в «демократических» сюжетах…
Ну, и целый каскад о жадности…
Да не перескажешь…
Я совершенно не могла уже больше терпеть.
Вот Вы — можете, а я больше не могу.
Я совсем не раскаиваюсь и пишу Вам потому, что скоро будет Очень Большое Одиночество, и от этого, конечно, страшно.
Собственно, оно давно началось, но обступает всё больше, и я не могу не только себя переменить, но даже себя остановить (из «опаски»)… «Терпеть ненавижу!» — вечно восклицала (в одно слово) моя бабка, и я, на каждом шагу, тоже терпеть ненавижу — потому: хорошо бы, чтобы Вы — некоторое время — меня кое-когда дальней тенью защищали — не потому, что я того стою, а только потому, что как будто некому…
Пока ещё не очень страшно, п. ч. эта «родина» всё-таки, покуда ещё, кажется, моя, но ведь могут отнять всё2.
(У тысячелистника дела тоже не очень хороши: его вырастает значительно меньше под Москвой, чем надо и чем было. Вы живёте далеко на севере и, может быть, этого не знаете. Вообще: надо очень всё беречь.)
* * *
9 октября 1977 г.
Конечно, мне не место в Пицунде. П. ч., как справедливо вопросил Лавлинский3, «Кто же будет работать???». И вот я написала сейчас 2 трудных странички о Блоке, новых. Про «ненавистные восторги»… (И, кажется, «Вальсингам»4 приобретает убедительность.)
Стимул: появленье Барыги5, к-й продал мне за 15 р. книжку Иванова-Разумника, куда входит и Ваша книжица (так что теперь — отдам), — которую читать мне пока некогда, но я посмотрела эпиграф («Нет исхода из вьюг…») — и написала 2 странички про своё…
[Леонтьев стоит мне ровно столько, сколько стоит Барыга. Я ему это сказала и что — «давайте, пожалуйста, расстанемся, Саша!» Тогда он гордо ответил, что может давать мне «почитать — бесплатно» то, что мне надо. И оставил — даром, почитать, на месяц — «Из истории русск. идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский» Сакулина… Так что — «разлуки — нет», «покой нам только снится». А Барыга стоил — за год (почти ровно) — бешеных денег. Я считаю его двойником Межирова, которого он ужасно презирает и очень вульгарно говорил много раз: «Нашли себе ассистента!», — п. ч. индийский тип часто ассистировал, ибо этого (Сашу-шершавого, — как, по голосу, я прозвала) нельзя, мол, «пускать в дом»…]
Ну, а в Пицунде я бы сейчас, пожалуй, думала бы одну дрянь: какой халат — к какому купальнику надеть… А ведь — глупо и вздорно, ибо:
Всё миновалось — молодость прошла.
И вообще: перед лицом Конца Света…
И, главное, там — «писатели»… (А я — читатель!)
Нет нервов!
Теперь надо сочинить страниц 12 про то, что новаторство — обнимает собою всё, что есть в поэзии преходящего.
Затем, в ноябре, разразится скандал с Лавлинским (не дай Бог!!!) — и я услышу родную фразу: «Что Вы мне принесли???!!!»
И тогда:
«С улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь…»1
(чтобы не повеситься).
Вы не думайте, что я «не жалею»… Я просто: не раскаиваюсь. (А это — разные вещи!)
Мне жаль, что Военизированная Баллада — такая гнусная и унизительная! Мне очень жаль, что —
Но я не могу, когда читают («наизусть») Блока лоснящимися колониальными устами… И, следовательно, я — антисемитка.
И 10 колен — за мною — по-старому вопиют: «Между домом Пушкина и домом Геккерена (барона) не может быть ничего общего» (и всё такое).
Я б всё равно написала своё письмо — ну, через полгода. Но к чему полгода длить унижение?
(Он3 скажет Вам, м. б., что я — «пантера, чёрная пантера, бросающаяся на советскую поэзию», п. ч. его метафоры будут вывезены из джунглей. А цель будет прежде всего, — «рассорить»: он всегда её следил потихоньку…)
Перед тем как ехать на Цейлон, следует купить в ЦДЛе, с наценкой, пуд сухой колбасы копчёной для нищих, п. ч. там все — голодают.
Мне б эта поездка была полезной: чтоб не скулила я впредь, на поприщинский манер:
«Достатков нет. Вот беда».
Но лучше — пусть никто не едет туда, пусть всё рассыплется; хотя там —
«до полюса открыто море…»
(Это всё — мой цейлонский бред — это такая игра перед концом света…)
Унижение — это когда ПОСТОЯННАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ГОРДОСТИ (чтоб «не заметить» то или иное кощунство), то есть безбожная «героичность».
Ваша
Т. Глушкова
Я — дивный, редкостный читатель! В этих 2-х страничках я — т. е. я обратила внимание на то, что Вальсингам говорит:
А ведь — обычно: «Бессмертья, может быть, залог…» (только). Дурак был бы Пушкин, когда б не накаркал Блока!4. И всё это — вовсе не формально (моё чтенье, «прочтенье»), уверяю Вас! Это — какая-то генетическая «начитанность», наверно… А м. б., тоже — «цейлонский бред»?
Ну, мы посмотрим…
(Вы сочинили мне очень добрую надпись на «Рукописи», — она радует и печалит, и хорошо, что она случайна…)
Совершенно невозможно понимать, что совсем ушло уменье (т. е. возможность историческая) — сочинить
И так же — легко, легко:
«Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим за жалобную песню…»
В XX веке лёгкость стала тесниться только в коротких, трёхстопных, размерах, в хореях коротких, например. (Которые похожи на ритм еврейского танца — фрейликс; как пишется?..)
Теперь осталось «переговорить» м-ль де Теруань1. Так зову я М. Цветаеву (революционную). П. ч., пока писала вот это письмо, вижу, что впала в беспризорное противоречие с Красной Девой Монмартра — насчёт Вальсингама. Кажется, дело в том, что и она пишет о «Памятнике-Пушкину» — более чем о Пушкине… Она где-то (?) вопила, что Вальсингам, мол, — на «черной телеге» (вeчнo). (А Пушкин, мол, бессмертен, ибо — поэт…) Это — неправда. Так и надо нахамить: мол, никогда!
(Бедный, бедный — «жил на свете» — Лавлинский!)
* * *
(Это написано в ночь на 14.Х.77 до моего звонка Вам, т. е. в большом пессимизме.)
С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Идёт большая война…
Вы, возможно, уже отбитый мой «союзник», и моё донесенье пойдёт в корзину для бумаг.
Но тот самолёт, что летит в Анголу2, покружил над моей головой и сбросил тяжёлые бомбы.
Тогда и я — запрягла сани и помчалась квитаться.
Оба удара были смертоносны, но тот, кто «умер он и в люди вышел»3, будет зализывать лысую рану в «нонешнем Париже» натуральном, а я, в лучшем случае, протяжно заболею — и с трезвым отчаяньем бессонно думаю, что статей печатать мне более не дадут.
Эта кипа чёрных и белых черновиков, листов не менее трёх, третьи сутки лежит, как в чуме, известковой яме.
В моих бетонных стенах бывает очень страшно. В такие поры я не могу читать, а только прислушиваюсь к животной боли.
Тип, в горячности, снова, конечно, оскорбил меня — 12-го.
«Рассказывать больше нет мочи!..»
Он объявил — посреднику моему, что всё — вымысел (мой), что ЧИСТ передо мной («ни сном, ни духом, ни помыслом») и уверен, что я раскаюсь и извинюсь. Что «в жизни дурного слова НИКОМУ обо мне не сказал, а только создавал рекламу». (К посреднику — пришёл первый.)