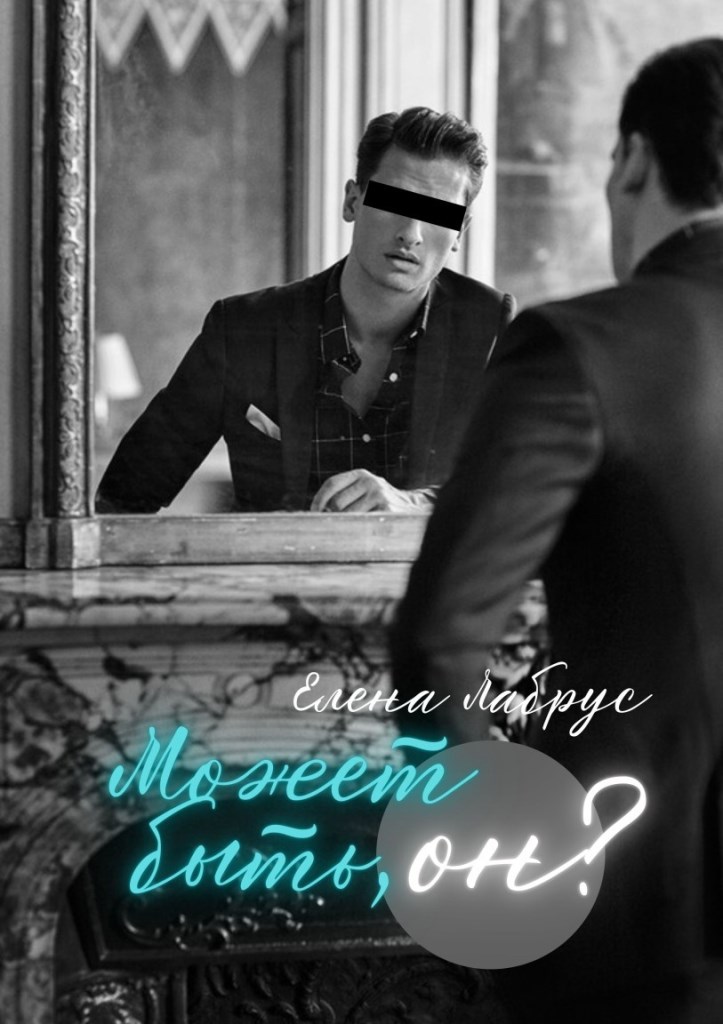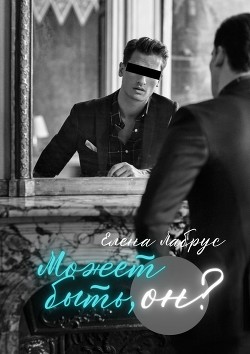я.
Он посмотрел на меня в упор.
— Так бы и жили.
Дверь истошно заскрипела и открылась.
— Андрей, ты парень. Нас бы засмеяли, — не знала я, что ответить.
— Чёрта с два я бы кому-то позволил.
— Ты ничего не сказал, — покачала я головой. — Вы все отвернулись. Ты — отвернулся.
— Да я был в шоке! Я не знал, что сказать. Как на тебя смотреть. Что делать.
— Ты даже не пришёл на похороны. И твоей мамы тоже не было. Хотя, конечно, я могла и не заметить. Мне было не до того, чтобы считать гостей.
— У меня была ангина. Я провалялся целую неделю с температурой, а когда поправился, ты уже жила у неё. У этой… коросты, — махнул он рукой в сердцах.
«Нет, нет-нет-нет, — покачала я головой, глядя на просвет открытой двери, как на вход в прошлое. — Ты не запудришь мне мозги».
Это сейчас Гринёв был такой смелый, решительный, гостеприимный. Потому что ничего ему уже не грозит. Мои проблемы никак его не касаются. Меня приютил не он, не его родители. И заботились обо мне не они.
С того дня, когда мама погибла, до её похорон и какое-то время после, я почти ничего не помнила. Всё было как в бреду. Всё, что тогда происходило. И происходило слишком быстро. Я не знала, что делать, как реагировать, кому верить, кому не верить. Но это чувство, что всё могло быть по-другому, что я могла жить у Гринёвых, в их большой светлой квартире, где помнили и любили мою маму, где по воскресеньям накрывали чай в большой столовой и собирались большой дружной семьёй за обедом в выходные, чтобы обсудить дела. Сама эта мысль разбивала мне сердце. И делала больно.
Могла бы... Но Гринёвы меня не позвали.
«Я ведь могла ошибиться. Это не мамино платье, не мамины серьги, мне показалось», — уговаривала я себя, стоя на пороге квартиры, в которой не была несколько месяцев. А если быть точнее, с маминых похорон и не была.
— Что ты хочешь проверить? — оглянулся Андрей, войдя первым и беззаботно оглядываясь.
Мне бы его безразличие. Я стояла, боясь пошевелиться. И медленно, как табачный дым вдыхала запах дома. Запах беззаботности и детства. Запах маминых духов. Запах старой мебели и воска для паркета. Запах жизни, которую у меня отобрали. И куда закрыли доступ просто потому, что были какие-то документы и юридические формальности, что мама вовремя не оформила. Я её в этом не винила. Ей было тридцать семь. Она не собиралась умирать. И до сих пор бы жила, не пригласи я её на тот проклятый фильм в свой восемнадцатый день рождения.
— Тебя не касается. И не трогай, пожалуйста, ничего, — шагнула я за Гринёвым в гостиную.
— Я и не трогаю. Но у меня стойкое ощущение, что тут что-то искали или просто рылись в ваших вещах. Этот ящик разве не был всегда закрыт? — походя кивнул он.
Старинное бюро из палисандра досталось деду от его деда и было сделано в восемнадцатом веке в мастерской знаменитого Рёнтгена, у которого учился Гамбс, создавший те самые «Двенадцать стульев».
Бюро, где мама хранила свои драгоценности и папины письма, стояло открытым.
— Мне сказали, что дверь опечатают и сюда никто не войдёт, пока не будут решены вопросы с наследством. И соседка, — обернулась я, — должна была присматривать.
— Угу. И где же она, твоя соседка?
— Я… я не знаю. Может, приболела. Или уехала к дочке.
— Это был сарказм, госпожа Ланц. Сарказм, — хмыкнул он. — Кстати, давно хотел спросить откуда у тебя такая странная фамилия?
— Странная, в смысле немецкая?
— А она немецкая?
— Ну, может, австрийская. Предки моего деда были оттуда.
«И вот что странно, — подумала я про себя. — Дед так дорожил своей фамилией, что и маме в браке не разрешил взять фамилию мужа, и меня записали Ланц. А той женщине, на которой женился в старости, он позволил остаться под своей. — Я потёрла лоб. — Хотя, может, дело в том, что она уже не могла родить ему детей. Тогда какая разница какую фамилию она носит».
Мысль мелькнула и погасла. А вместе с ней и другая: почему мне ничего не сказали.
Дед умер за два с лишним года до смерти мамы. Мне было всего пятнадцать. Мне могли не сказать, потому что: зачем? Да и мама знала про его женщину, но могла не знать про женитьбу. Они ссорились с дедом из-за чего-то незадолго до его смерти. Они часто с мамой не сходились во мнениях, но это были не ссоры с выяснением отношений, скорее дружеские споры: они что-то доказывали друг другу, потом смеялись, потом звали меня пить чай и за столом снова спорили. А тогда поссорились: мама дулась, дед с ней не разговаривал.
— Ты, случайно, не в юридический собираешься поступать? — спросила я у Гринёва, остановившись у открытого бюро.
— Нет, в медицинский, как отец. А ты?
— Не знаю, — пожала я плечами. Хотя уже давным-давно надо было определиться.
Кто бы знал тогда, всего несколько недель назад, в апреле, какие последствия будет иметь эта вылазка в мою квартиру. Что не суждено мне, видимо, будет ни сдать выпускные экзамены, ни поступить в институт.
Когда вечером я вернулусь на смену в кафе, нас с Гринёвым увидит Урод. И ему это совсем не понравится. А за две недели до девятнадцатого дня рождения у меня в сумке прямо во время работы найдут наркотики, обвинят в хранении. И отвезут в СИЗО.
Но это будет потом.
Тогда, оказавшись дома, где я чувствовала себя в безопасности, где были вещи, что я могла узнать с закрытыми глазами, где до сих пор пахло счастьем, я не хотела думать про Урода, про ту жизнь, которой теперь жила. Каждой клеточкой своего тела я хотела остаться. И всё, о чём думала: как я виновата. Всё началось не с Урода, а с того, что