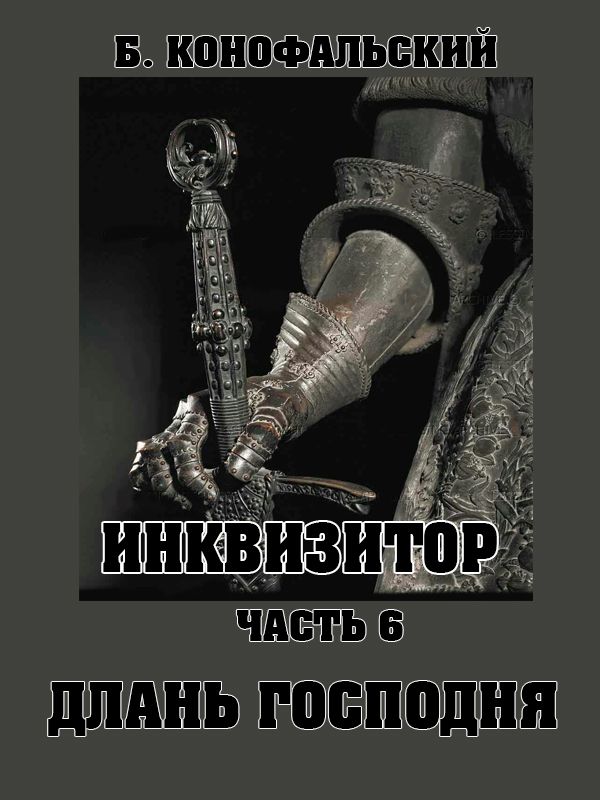class="p1">— Госпожа, звали? Что, ужин подавать?
— Свечи неси, — рявкнула Агнес.
— Сколько? — Спросила служанка.
— Много, дюжину неси!
Расставила свечи вокруг, зажгла их. Стала к зеркалу, постояла: да, теперь всё хорошо видно. Взяла книгу, раскрыла на том месте, где остановилась. Стала опять читать, читала про себя, лишь губы от волнения шевелились.
— Волосы, волосы, волосы, — шептал она, подняв глаза от книги в зеркало, — «не глупой силой рук, а лишь дерзновением души, всё презирающей, и волей неуклонной», — повторила она последние строки в абзаце. — «Дерзновением души».
Она смотрела и смотрела в зеркало, ничего не делая, не шевелилась. Едва дышала носом, стояла и просто смотрела на себя исподлобья, чуть наклонив вперёд голову. Повторяя про себя: «Лишь дерзновением души. Лишь дерзновением души».
Свечи помалу оплывать стали, капать воском. За дверью ходила на цыпочках тяжёлая Ута. Прислушивалась, что там у хозяйки. А она всё смотрела и смотрела на себя в зеркало, пока ломить глаза не стало. Кажется… Кажется…
— Ута! — Закричала она.
— Да, госпожа, — тут же отозвалась Ута, отворяя дверь.
— Сюда иди, — сказала Агнес и наклонила голову, словно собиралась боднуть служанку. — Смотри!
— Куда? — С испугом спросила, глупа служанка.
— На волосы смотри, дура!
— А что там? — Подвывала Ута.
Агнес захотелось её убить.
— Смотри, дура, потемнели ли волосы? — Еле сдерживаясь, произнесла Агнес.
— Ах! Да! Потемнели, стали темны в корнях возле пробора!
— Потемнели или почернели?
— Ох, дайте разглядеть. Потемнели.
Ах, как ей стало хорошо, хоть и устала она отчего-то, словно целый день в карете ехала, но всё равно хорошо ей было сейчас, значит, не ошиблась она. И не соврал Корнелиус Корн. Девушка снова стала разглядывать себя в зеркале, разгребая волосы пальцами. Нет, не ошиблась, её русые, сероватые волосы немного изменились. У корней волосы стали заметно темнее. Они были всего на вершок от головы темны, остальные цвета прежнего, но изменились, темны у корней.
— Госпожа, да как вы так смогли? — Бубнила Ута, всё ещё приглядываясь к её волосам.
— Вон пошла, — сказала счастливая Агнес и поплелась к кровати.
Упала на неё, прямо на перину. Так устала, что укрыться сил не было, все, на что хватило сил, так это крикнуть уходящей служанке:
— Пошла куда? Свечи-то потуши, скудоумная.
Утром, когда ещё темно на дворе было, она, ни поев, ни помывшись, ни одевшись даже, опять к зеркалу, опять за книгу. Как была голая, стала перед зеркалом, даже не стала служанку звать, сама лампы и свечи зажгла. И снова стала читать книгу. Запоминать слова и делать то, что в книге писано. И теперь ей всё легче давалось. Лицо так по взмаху руки меняла. Пока одно научилась быстро делать. Посмотрит на себя в зеркало, и так, и эдак, и справа и слева, а потом рукой перед глазами проведёт — раз! И иная девица стоит в зеркале. Как это удивительно и прекрасно было. Перед ней другая, с лицом не таким, как у неё, с лицом красивым. И её в этом лице нипочём не узнать, разве что по глазу, который косит немного. Да, прекрасно, прекрасно, но этого мало. Она хотела плечи иные. Чтобы как у Брунхильды. Чтобы ключицы не торчали. И грудь больше, и живот красивый, и бёдра! Ну, что у неё за бёдра? Костлявые, угловатые. И ноги! Книга, конечно, книга её поможет. Девушка снова раскрывала книгу, читала и читала. И тут же пыталась сделать, как сказано. Но не всё получалось, как ей хотелось. Уже за окнами посветлело, уже за дверью шебуршала служанка, пахло из кухни завтраком давно, а она всё пыталась так себя выгнуть изнутри, так себя растянуть, чтобы стать новой, саму себя удивить. Выгибалась, напрягалась, старалась, пока силы её не покинули. Даже книга из рук выпала. Мало что сегодня получилось у неё, мало. Пошла она и повалилась на кровать разочарованная.
В дверь поскреблась Ута:
— Госпожа, мыться желаете?
— Прочь! — Крикнула она зло, хотя злиться на служанку было глупо.
Ну, не она же в её неудачах виновата. Да и можно ли её старания считать неудачными? Кое-что у неё получалось.
Как была без одежды и простоволосая, так босиком пошла вниз к завтраку. Её дурное расположение духа все сразу почувствовали.
Зельда Горбунья так от плиты не отворачивалась, жарила колбасу. Ута изо всех сил чистила подолы её нижних юбок, головы не поднимала. А Игнатий, как увидал, что госпожа спустилась из спальни нагая, так уже уйти в людскую собирался от греха подальше, уже встал. Так Агнес не дала ему уйти, окрикнула:
— Стой, Игнатий. Ко мне иди.
Он замер поначалу, а потом пошёл к госпоже неуклюже боком, и так шёл, чтобы ни дай Бог глаз на неё поднять.
А Агнес мостилась на твёрдом стуле, голой сидеть на нём неудобно. Тощим задом ёрзала, да всё без толку, и тогда крикнула:
— Ута, подушек мне принеси.
Служанка бегом кинулась, по голосу госпожи знала, что сейчас её лучше не гневить.
Агнес же после подняла глаза на кучера своего:
— Расскажи мне, Игнатий, зачем ты баб убивал? К чему это? Другие мужики баб не убивают, пользуют их и всё. А ты зачем душегубствовал?
— Что? Баб? — Растерялся конюх.
— Не думай врать мне! — Взвизгнула Агнес. И так на него уставилась, что он щекой своею небритой, через бороду густую взгляд её чувствовал. — Говори, зачем баб убивал?
— Ну так… Это от мужской немощи… — Заговорил конюх, говорил явно нехотя и поглядывая при этом на Зельду, что стояла к нему спиной у плиты, — ну… там… когда бабу я хотел… А у меня силы мужской не было… Пока я её…
— Что? — Продолжала за него Агнес, привставая со стула, чтобы Ута уложила на него подушки. — Душить не начинал? Или бить?
— И бить, и душить, — сказал кучер, — в общем, пока она скулить не начнёт.
— А дальше? — Усевшись удобно, продолжала девушка.
— Ну, а дальше… Ну, там или душил их, или бил, пока они чувства не теряли.
— Зачем?
— Так по-другому разрешиться не мог. — Бубнил здоровенный конюх. — А как она с синей мордой хрипеть начинала или кровью давиться, так у меня всё и разрешалось. Только так и получалось.
— Да ты зверь, Игнатий, — засмеялась Агнес. — Скольких же ты баб убил вот так вот?
— Да не так, чтобы много, обычно всё без душегубства было, редко не сдержусь и распалюсь совсем… Тогда и выходило… А так обычно бабы сами ещё… Уползали потихоньку живыми. Да и были почти все они гулящие.
— А что, и не гулящих баб ты убивал?
— Ну,