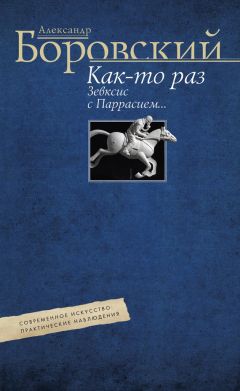К сегодняшнему дню интерес к нарративности нарастает.
Появляются произведения аналитического плана. Работа Е. Губановой и И. Говоркова «Случай в метель» ироникодидактична. Ее предмет – «двоякая событийность нарратива» (выражение С. Зенкина). То есть изобразительное повествование о событии и одновременно событие самого повествования, так сказать, внутренний сюжет визуализации. Серия состоит из шести полотен последовательно уменьшающегося формата. Первые три однообразны по живописному заполнению – снег, темень, метель. Художники визуализировали излюбленный прием русской литературы, столько раз в качестве завязки избиравшей метель! Три картины – раскадровка – пошаговое развитие действия: физическое преодоление, усилие, неизвестность. Затем – огонек, освещенное окно одинокой избы. Еще один шаг – приближение: фокусировка на оконном стекле, за которым – тепло, свет, какая-то иная жизнь. Наконец, еще ближе – крупный план – стакан: тоже традиционный русский образ сугрева, гостеприимства и пр.
Вообще, оптическое измерение в некоторых произведениях само берет на себя функции повествователя. Так происходит в драматическом, при всей внешней статике, триптихе С. Файбисовича «Alms giving» («Раздача милостыни»). Совершенная механическая photo-based визуальность и несовершенная телесность – поистине человечный сюжет. Визуальность молодого художника М. Федоровой урбанистична: она зиждется на отражениях, преломлениях света, бликах, вспышках, блицах. Обычно эта среда, так сказать, опредмечена: зеркалами, расстекловкой, витринами, семафорами, покрытием машин и пр. Для Федоровой важна персонажность: одни ее женские персонажи живут в этом «стеклянном доме» естественно, других он доводит до ситуации «женщины в состоянии нервного срыва». Даже когда эта предметная мотивировка отсутствует и художник выстраивает непрозрачную среду, какой-то миражный слой оптичности остается. Так, он играет важную роль в триптихе «Помойка общества потребления»: это своего рода линза, преломляющая солнечные лучи – зажигательное стекло. Недаром на периферии картины что-то горит, и марево окутывает изображение.
Неожиданные метаморфозы сюжетности предлагают пока еще недооцененные художники Е. и И. Кулик. Они работают «отдельно», но в близкой, объективизированной живописной манере. Елена – мастер уличных сцен, стрессовых городских состояний. Игорь склонен к социальности, то ли доводя злободневное до аллегорического, то ли просто реализуя собственные фантазмы: так, у него «космонавты» (военизированная полиция) вступают в схватку с какими-то птеродактилями. Но вот что интересно: отношение к картине как к оптической данности нейтрализуют потребность эмоционального или логического толкования. Сосуществование полицейского и ящера не шокирует, как трансгрессия, и не требует расшифровки, как аллегория или интеллектуальный монтаж. Это – данность единого оптического режима. Он и становится главным сюжетом, задача которого – течь и длиться, меланхолически транслируя картинку.
Инсталляции М. Алексеевой – попытка преодоления режима отчужденности. Художник воссоздает в небольших лайтбоксах разного рода анимированные (сочетание предметных бутафорских реалий и «закольцованного» видеофрагмента) интерьеры. В данном случае – интерьеры купе. Алексеева работает с двумя нарративами. Первый – рассказ о зрителе, о его ситуации смотрения («приникание» к глазку, если он существует, или если лайтбокс просто открыт благодаря снятию фронтальной стенки, – позиционирование себя по отношению к тому, что «внутри»). Вообще говоря, «обособляющее видение» – разного рода выгородки и обособленные пространства – в традиции андеграунда связано с дискурсом дисциплины и контроля. Алексеева пытается «одомашнить», интимизировать прием: отсюда – малый размер, «уютная», кукольная бутафория. Второй нарратив – пассажирский, попутнический. Известное дело: поезд, вагон – самая сюжетоемкая тема. Здесь рассказываются истории, завязываются жизненные интриги, «случаются» отношения (например, этот нарративный потенциал использует М. Кантор в картине, представленной на настоящей выставке). Интимизация, очеловечение «политики зрения» позволяет художнику снять коннотации надзора, контроля, отчуждения: «государственное» здесь заменено на частное, житейское. Но «стекло отчужденности» – купейное окно – остается: в слишком разных режимах – временных, оптических, эмоциональных – существуют пассажиры и зрители. Зрителю предоставляется широкий спектр реакций – от экзистенциальной тоски до житейской грусти («Вагончик тронется, перрон останется…»). Попытки в буквальном смысле «достучаться» до «заэкранной» реальности предпринимает А. Дементьева в видеоинсталляции «Drama House». Технический принцип интерактивности здесь находит прямое и нарративно насыщенное воплощение. «Здесь», по «нашу» сторону, – панель управления. По «ту» сторону, на некоем экране, окна многоквартирного дома – эта воплощенная повествовательность. Зритель нажимает кнопку (аналог дверного звонка) один или несколько раз – в соответствии с числом нажатий он получит доступ в ту или иную квартиру. В каком качестве? Отличная завязка сюжета.
С. Файбисович, Е. и И. Кулик, М. Алексеева, А. Дементьева, Моторнина и А. Барабанов («Диафильм № 1»), впрямую или опосредованно, работают с оптически-экранными средствами («инструменты видения» могут быть любыми – фотообъектив, экран компьютера, видео, анимация, диафильм и пр.). Нарративы А. Насонова я бы назвал постэкранными. Кино присутствует в его творчестве, так сказать, стереоскопично. Некоторые серии («Еще раз о кино», «Мои неснятые фильмы») прямо тематизируют эту связь: текстуально, иконографически-цитатно, визуально (ракурсы, первые планы, вообще раскадровка, но главное – сама живописная реализация, в которой многое намешано: с одной стороны – композиционная определенность, с другой – плывущий, чуть размытый белесым колорит (память о шосткинской кинопленке), но главное – специфическая иллюзорность, в которой читается идущее от детства ощущение световой проекция на кисее экрана. Насонов – младоконцептуалистского происхождения, он имеет опыт деятельности «после искусства», то есть набил руку в тотальной языковой и институциональной (развенчание самой мифологии производства искусства) деконструкции. Кажется, так он и делает. Кинематограф, особенно тот, к которому он прирос, то есть советский, является инстанцией управления: «сквозь него» просматривается некая сумма реального, дабы превратиться в четко организованную смыслои чувствопорождающую художественную структуру. Насонов, сохраняя многообразные, описанные выше, связи с киномиром (речь редко идет о конкретном фильме, во всех его сериях кинореальность присутствует в некоем синтезированном визуализированном, а часто подразумеваемом образе) аннулирует главное: механизм производства иллюзий, символов и смыслов. Прежде всего – посредством разрыва причинноследственных связей, вообще любой осмысленной процессуальности. Даже речевой: вместо диалогов и реплик дан некий опредмеченный визуально акустический мусор: «Апчхи», «Пи-пи-пи»… Так, в работе «Переход» от фильма «Война и мир» остался только плакат с изображением актера Тихонова в роли: все остальное – чужое: современная урбанистика, одинокие фигуры, какое-то дадаистское, без означивающих функций, написанное поверх изображения «Би-би-бип»… Праздник редукции и перекомпоновки? Но, похоже, художник не испытывает радости на развалинах чужого кинонарратива. Отсюда тема одиночества, меланхолия, а значит, завязка нового нарратива.
Видимо, к середине 2010-х тяга к нарративному действительно стала важным фактором современной художественной культуры. По крайней мере, два проекта, специально репрезентирующих этот интерес, принадлежат к числу наиболее серьезных произведений текущего периода. Симптоматично, что эти проекты созданы молодыми художниками М. Сафроновой и Т. Коротковой. Не менее показательно, что установка у обеих носит чуть ли не исследовательский характер.
Обе, решая индивидуальные творческие задачи, похоже, специально фокусируют внимание на природе, возможностях повествования. Более того, обе обеспечивают лабораторную чистоту исследования.
Как уже не раз говорилось, принято считать, что есть наличная реальность – «континуум событий» (в разряд которых попадают не только «действия», но так же и «ситуации», «лица» и «свойства» действий), и «повествователь», формирующий из них «истории» (согласно С. Зенкину). Иными словами, «истории», сюжеты, нарративы – это инстанции структурирующие, контролирующие, дисциплинирующие живую реальность. По сути дела, повествование, пользуясь выражением М. Фуко, является «операцией дисциплины». Чистота эксперимента художников в том, что упомянутый «континуум» уже подвергнут «операции дисциплины», является дисциплинарной институцией. Дело в том, что М. Сафронова в серии «Распорядок дня» предметом своего исследования избирает ситуацию лечебно-исправительного учреждения. Т. Короткова в «Репродукции» – фантастическую лабораторию будущего – стерильный высокотехнологичный мир деторождения. Со времен «Паноптикона» Бентама (архитектурный проект исправительного заведения со всевидящей, всенаблюдающей тюремной башней) тема контролируемого пространства болезненно интересует искусство. В период андеграунда к ней обращались И. Кабаков, Л. Ламм, С. Есаян, разумеется, в контексте советского коллективного опыта. М. Сафронова отсекает советское как лишнюю, отвлекающую историю. В «Распорядке дня» несвобода – данность без идеологических коннотаций. Люди здесь – «просто» больные, «просто» совершившие преступления. Они принимают пищу, гуляют, лечатся, спят – под контролем. Контроль просматривает пространства, прощупывает тела, регламентирует позы. Есть здесь и макет учреждения – своего рода привет Паноптикону. Здесь все ожидаемо, даже взрыв агрессии – жестокая бессмысленная драка. Это большая история о том, как контроль доводит до полного слияния социального с антропологическим. Возможны ли здесь индивидуальные нарративы? Может ли сюжет, сам являясь инстанцией контроля, оторваться от этой своей функции и отпустить на волю пару-тройку личных человеческих историй? А значит, нарушить «распорядок дня»?