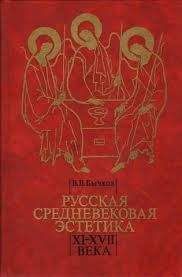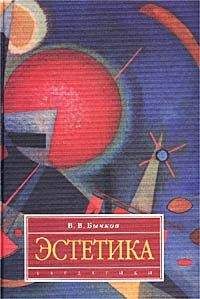Соответствующую интерпретацию у Канта получает и проблема языка и искусства. Остановимся сначала на коммуникации эстетических идей. Из неспособности любого языка выразить и сделать доступным эстетическую идею, как утверждает Кант, может следовать только вывод о ее принципиальной «некоммуникабельности» или во всяком случае о такой коммуникации, которая характеризуется принципиальной неопределенностью и релятивностью. В самом деле, эстетическая идея, по словам Канта, «открывает виды на необозримое поле родственных представлений», «возбуждает массу невыразимых словами ощущений и побочных представлений»[494], вследствие чего дух оказывается связанным с языком «как одной лишь буквой».
Как уже говорилось, в искусстве, согласно Канту, происходит коммуникация общего чувства эстетического удовольствия. Наличие этого общего чувства является субъективным условием (в субъекте!) общезначимости эстетической способности суждения, или вкуса, а значит, и ее общепонятности. Какова природа этого общего чувства?
Перед Кантом возникает следующая альтернатива: или общее чувство – это «изначальная и естественная способность», или «регулятивный принцип», «требование разума». Выбирая первое, философ становится на путь натуралистической теории коммуникации, выбирая второе – на путь трансцендентальной теории. Кант выбирает второй путь.
Он не считает убедительным довод «натуралиста» о том, что каждый имеет одинаковое внешнее чувство, еще более различны люди в том, что им приятно или неприятно при ощущении одного и того же предмета чувств, т. е. в удовольствии, называемом наслаждением. Эстетическое же удовольствие от прекрасного должно покоиться на одинаковых условиях или правилах. Эти правила – не те, по которым природа руководит людьми в их деятельности, как это бывает у животных; они устанавливаются самим человеком, его разумом. По Канту, только символическая форма может притязать на то, чтобы быть общим правилом для чувства удовольствия. На вопрос о генезисе этих форм Кант дает такой ответ: они покоятся на априорных принципах, или основаниях человеческого разума. Таким образом, Кант ищет объективную основу коммуникации эстетического чувства в искусстве посредством красивой формы в априорности этих форм.
Объективность априорных форм с необходимостью предполагает индивидуальную общность разумов, «трансцендентальный минимум», по выражению Эрбэна[495], свидетельствующий о позиции объективного идеализма. В учении о всеобщей сообщаемости Кант, пишет В. Ф. Асмус, делает робкий шаг, «ведущий от основного для него воззрения субъективного идеализма к идеализму объективному»[496].
«Робким» этот шаг был потому, что у Канта весьма сильно дает о себе знать «натуралистический», антропологический (в духе Фейербаха) подход к объяснению человека и его сознания. Узость такого подхода была метко схвачена и подвергнута критике Гегелем. В своей «Истории философии» он пишет, что кантовская философия не умеет справиться с единичностью самосознания, она очень хорошо описывает разум, но делает это бессмысленным, эмпирическим способом. Кант остается замкнутым в пределах психологического воззрения и эмпирической манеры. Познающий субъект у Канта не доходит до разума, а опять – таки остается единичным, эмпирическим, конечным самосознанием как таковым, противоположным всеобщему[497]. Сам Гегель, как известно, преодолевал узость такого «эмпирического» подхода с позиций объективно – идеалистической диалектики.
Таким образом, кантовское решение коммуникативных проблем искусства – знака, символа, языка и коммуникации – в философском аспекте характеризует сочетание субъективизма с тенденциями объективно – идеалистического и отчасти эмпирического, натуралистического характера. Именно эти черты кантовской философии искусства послужат одним из главных философских источников семантической философии искусства ХХ века. Трудно назвать какого-нибудь видного представителя семантической философии искусства, который бы избежал влияния Канта, когда речь идет о коммуникативном подходе к анализу искусства.
В первую очередь следует назвать неокантианский вариант семантической философии искусства в лице одного из ее лидеров – Э. Кассирера. Здесь философия Канта была отправным пунктом. Д. Верене в статье «Кант, Гегель и Кассирер: происхождение философии символических форм» удачно показывает родство феноменологического метода Кассирера с «феноменологией духа» Гегеля, однако основной тезис автора, что философия символических форм Кассирера выводится из Канта лишь в «широком» смысле и что действительная основа ее – в философии Гегеля[498], является весьма спорной. Большинство исследователей философии Кассирера (К. С. Бакрадзе, Б. Григорян, И. Туровский, Х. Бычанска и др.) и его эстетики[499] единодушны в мнении об определяющем влиянии Канта.
Эстетика символических форм Э. Кассирера в свою очередь была исходным пунктом символической философии искусства известного американского семантика Сюзанн Лангер. Философия и эстетика Канта, преломленные через идеи Кассирера, явились фундаментальной базой для семантической концепции сознания искусства С. Лангер. Сама Лангер в своих трудах многократно подчеркивала испирирующее влияние идей Канта в развитии ее семантической концепции искусства. В частности, она отмечала, что именно мысль Канта создала возможность изучения символизма в такой труднодоступной для анализа сфере интеллектуальной жизни, как искусство, где отношения символов многообразны и сложны[500].
Семантический вариант прагматической философии искусства ведет свое начало от Ч. Пирса. Семантический аспект его философии и эстетики связан с семиотикой, основателем которой он считается. В многочисленных исследованиях о философии и семиотике Пирса (Р. Бернштейн, М. Томпсон, М. Мёрфи, Ф. Винер и др.) отмечается большое влияние идей Канта. Это влияние исследователи (Дж. Фейблман, Т. Шульц, М. Хокатт и др.) обнаруживают и в семантической философии искусства Пирса[501].
Кантовская философия оказала свое воздействие и на неогегельянскую интерпретацию лингвистической философии искусства в трудах Б. Кроче (и его ученика – английского философа и эстетика Р. Коллингвуда). Еще Г. В. Плеханов отмечал, что «кантовская критика» наложила глубокую, неизгладимую печать на все миросозерцание Б. Кроче»[502].
И в неопозитивистском варианте (который чаще всего противопоставляют Канту) семантической эстетики отчетливо прослеживаются идеи Канта. «Классиками» неопозитивистской эстетики являются А. Ричардс и Л. Виттгенштейн. Влияние кантовских идей на первого отмечается М. Блэком[503], влияние Канта на Виттгенштейна подробно анализируется в статье Дж. Хартнэка «Кант и Виттгенштейн». В частности, автор утверждает, что те задачи, которые Кант возлагал на разум, неопозитивисты и Виттгенштейн возлагают на язык. Различие между этими позициями более кажущееся, чем реальное.
Неопозитивистские принципы исследования искусства послужили важной философско – методологической основой «новой критики» – влиятельного направления в англо – американской эстетике и литературной критике семантической ориентации. Как сами неокритики, (Дж. Рэнсом, К. Мундт и др.), так и авторы многих исследований об этом семантическом направлении в литературоведении называют Канта одним из главных предтечей «неокритицизма»[504].
Факт влияния кантовской философии на все основные ветви семантической ориентации в философии искусства ХХ в. представляется бесспорным.
Классик немецкой философии и эстетики, великий поэт и мыслитель Гёте был очень сложной и диалектически противоречивой личностью, взгляды которого невозможно уложить в прокрустово ложе какой – либо жесткой теоретической концепции[505]. Однако на протяжении долгой творческой жизни в мировоззрении мыслителя отчетливо дают о себе знать некоторые ведущие тенденции. Во многом эти тенденции связаны с тем, что Гёте до конца своих дней был великим сыном века Просвещения – и в ранний период, когда он был вместе с Гердером одним из лидеров «Бури и натиска», и в более поздний период «веймарского классицизма»[506].
Одна из этих ведущих тенденций – глубокое и разностороннее понимание роли и значения коммуникации (общения) для жизни общества, развития науки, искусства и личности.
В отличие от природы, говорит Гёте, которая «творит словно бы ради себя самой», человек «творит как человек и ради человека». «Все, что мы мыслим и творим, поскольку мы этому приписываем некое всеобщее значение, принадлежит миру, и мир, в свою очередь, нередко содействует созреванию того, что ему потом может пригодиться из трудов отдельной личности». Беседы, переписка, печать, короче «обмен мнений» – это прекрасное «пособие для собственного и чужого развития», для «выгод» светской, равно как и деловой, жизни, но главным образом для науки и искусства. Взаимоотношения с публикой являются, «поскольку речь идет об искусстве и науке, столь же благоприятными и даже необходимыми».