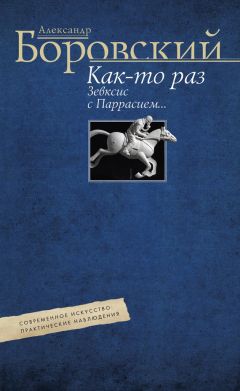Рассматривая же такой масштабный проект, как «Манифеста в Эрмитаже» в целом, скажу следующее. Сотрудничество с мега-музеем, к тому же в сложных обстоятельствах неспокойного внешнего мира, располагает к идее музея как крепости (образ спасения, перегруппировки сил, подготовки – пропедевтика! – кадров, пересмотра стратегий). Эта линия реализована Кёнигом безупречно. Но Манифеста по статусу своему – все-таки форпост, зона риска, позиция сорвиголов (радикалов, по-нынешнему говоря). Драматургия этого события развивается (разрывается!) между двумя этими образами-концептами. Увлекательное зрелище!
2014
«Дано мне тело, – что мне делать с ним»
Телесное обросло мемами. Краккауер – орнамент массы, С. Зонтаг – полое тело, шизоидное тело, Р. Краусс – политика репрезентации телесного… Или телесная репрезентация политики… Недалеко от высокомудрого ушло и обыденное сознание: тот, кто отрезал себе причинное место, та, кто придумала «вагинальную живопись», тот, кто кусал публику как собака, тот, кто прибил гениталии к площади. Словом, о бедном телесном замемлите слово… Некому сказать попросту, по культурно-антропологически, по-шекспировски: а тело пахнет так, как пахнет тело… Прошло время людей типа Ренуара, который объяснял выразительность своих ню, по-стариковски мечтательно показывая на их бедра: это надо было любить, это надо было гладить…
Между тем поворот к телесному был обусловлен простыми, в сущности, вещами: реактуализацией чувственного как присутствия. Как в художнике, так и в зрителе. Чтобы вернуть этой позиции присутствия, казалось бы, само собой разумеющийся содержательный статус, нужна была встряска. Пусть и шоковая, пародийная. С конца 1940-х годов почти до конца своей жизни, до 1967 года, М. Дюшан работал над ассамбляжем «Дано». Деревянная дверь, дыра в ней, сквозь которую в классическом перспективном сокращении – обнаженная женская фигура. Водопад и светильный газ – два момента «из прошлого» художника, из времен «Большого стекла», – вовлекают знатоков в «игры прочтения»: апелляцию к текстуальности раннего Дюшана. Но все это – под сурдинку. Подавляюще главным, конечно, является модус смотрения: зритель буквально приникает к дырке, застигая себя в ситуации подглядывания. Вот в издании «Искусство с 1900 года» (тексты Х. Фостера, Р. Краусс, И.-А. Буа, Б. Бухло, Д. Джослита), боюсь, становящемся сегодня настольной книгой молодого бойца-искусствоведа, эта ситуация так примерно и описывается: «…этот визуальный опыт не позволяет вынести за скобки тело, которое служит ему опорой и связывает с объектом суждения; это тело уплотняется до состояния некоего объекта, становясь низменноплотским в ответ чувству стыда». То есть, упрощаю, зритель уподобляется Peeping Tom’у. Возвращает себе (повторяю, пусть и в пародийной форме) телесность.
Вопрос не такой уж простой. Еще Батай писал, применительно к искусству и художнику, о подчиненности власти, дискурсу, диктату соглашений, «возвышенному» (время добавило к последнему антиномическое – «низкому», по аналогии со знаменитой выставкой в MоMA «High and Lоw», а также, пожалуй, девиантному). Концептуализм закрепил в художническом подсознании статус произведения как фактора «ментального, а не визуального или чувственного». Чтобы разрушить этот стереотип, как бы предвиденный Дюшаном, нужно было актуализировать телесное в зрителе. В этом плане многое сделал Д. Бюрен, принципиальный борец со стереотипами и инерционностью апперцепции. Приведу свой собственный опыт. Когда-то, в самом начале 1990-х, мне посчастливилось с группой кураторов попутешествовать по местам боевой славы современного искусства Франции. Никогда не забуду впечатление от объекта Д. Бюрена. Посреди поля стоял куб из бетона. В раздевалке тебе выдавали купальный костюм с фирменными бюреновскими полосками. При приближении оказалось, что полый куб установлен в бассейне, причем на определенной высоте, примерно на метровом расстоянии от пола. Нужно было поднырнуть под нижнюю часть любой из стен куба и заплыть под водой внутрь. Толщина стен была всего ничего – тоже не больше метра. Но под водой зритель (я, во всяком случае) терял ориентацию и впадал в панику. И только потом видел световое пятно и, оттолкнувшись, уже через секунду выныривал во внутренне пространство – голый открытый квадрат с подобием бетонных скамеек. Боже, какое это было наслаждение – посмотреть на небо после стольких испытаний. Что это было? Элементарная работа с апперцепцией. Бюрен чуть-чуть изменил правила игры, и мы испытали массу впечатлений как результат простейшей навигации в пространстве. Бюрен показал, как надо работать с телом, – перенастраивать, перезагружать аппарат апперцепции.
И. Кабаков в инсталляции «Где твое место» в буквальном смысле «приделывает ноги» к мыслительному, аналитическому аппарату зрителя. Одни зрители вровень с картинами. Другие пробивают потолок, и их гулливерские ноги торчат рядом с «нормативным посетителем». То есть Кабаков дозирует в зрителе совокупность ментального и, как говаривал Фуко, «физичного», не опасаясь мутаций. Надо сказать, Кабаков вообще очень чувствителен к тому, что В. Подорога называл, применительно к искусству, «телесным чувством». С присущим ему качеством самонаблюдения художник вспоминал о своем раннем опыте рисования: «Происходила <…> какая-то разрядка мощной энергии, как бы идущей откуда-то из глубины меня. Предусмотреть результат этих движений пера, этих „маханий“ было невозможно, он возникал сам по себе, но в его постепенно получавшейся конфигурации, узоре для меня как бы сохранялась память и переживания этой идущей из глубины энергии». Физическую укорененность рисования манифестирует Ребекка Хорн в своем знаменитом перформансе 1973 года: на лице художника маска с закрепленными в ней карандашами. Спонтанные движения головой по листу бумаги, собственно, и создают образ: рисование – след телесного. М. Уайт, исследователь творчества Р. Серра, добавляет в нашу копилку: его (Серра) рисунки в их физической, тактильной реальности апеллируют к жизненному опыту в целом, это след живого.
Укорененность в телесном, повторю, имеет еще один план – полемический. Это – критический жест, как пишет Корнелия Батлер, «вибрации тела – отказ от знака». Что ж, все закольцовывается – антиментализм, антизнаковость, антиумозрительность.
Правда, реальность развития искусства сложнее. Да, произошло некое разделение. На тех, кто работает непосредственно телом. И тех, кто пользуется этой работой: интерпретирует, создает контексты и дискурсы. Так сказать, телесники и менталисты. (Боюсь развивать эту мысль дальше. Иначе получится – эксплуатируют чужое тело. А ведь менталисты, как правило, – заядло левый народ.) Первые стараются войти в роль и не думать. Во всяком случае, в процессе перфоманса или акции. Хотя бы из чувства самосохранения: тут не до мыслей, когда рычишь или самочленовредительствуешь. Вторые рефлексируют и ни в коем случае не позволяют себе чувственных или хотя бы личных проявлений. (Разве что отвязанные аспирантки дадут себя вовлечь в опасные связи – какой-нибудь перформанс по типу «Мясной радости» Шееман. Но это на статистику не влияет.) Они запускают телесное в новую систему опосредований.
Например, вернемся к Ренуару. При всей хрестоматийности этой фигуры этот его разговор у собственных картин на современном языке описания можно трактовать вполне концептуально: как институциональную критику искусства. Дескать, есть традиция эстетического и музейного опыта. А тут – бедра погладить, актуализировать личный сексуальный опыт. Делать то, что Р. Якобсон называл «пальпированием искусства». Ничего страшного. Просто налицо подтачивание институционального статуса искусства. То есть опять стрелки переведены с телесного опыта на стратегии, философские легитимации и пр. Не более того.
К чему я веду? Разумеется, чуть-чуть троллю своих коллег, посягая на святость границ концептуального дискурса. Но есть здесь и нечто более серьезное. «Работающие телом» требуют легитимизировать авторски телесное: это я, мое тело месяцами просиживает в МоМА напротив тысяч чужих тел, это я свое тело режу по живому, отдаю в тюрьмы на расправу и т. д. К вам мы стучимся своими телами, отворите! Ничуть не бывало. Отворим, но заманим в силки дискурсов, языков описания, опосредуем, перенацелим.
Как будет развиваться ситуация? Во многом будет зависеть от зрителя, от того, крепко ли ему Кабаков «приделал ноги».
2015
Еще, еще! Сетчатка голодна!
И. Бродский
Кажется, я наблюдаю искусство Алёны Кирцовой всю жизнь – со времен Шпицбергена, где она родилась. Или наблюдаю Шпицберген, на котором никогда не был, в репрезентации Кирцовой, – важно, что ее живопись присутствует где-то на донышке моего сознания уже очень много лет. И писать о ней мне приходилось. Вовсе не отказываюсь от высказанных когда-то по поводу Кирцовой умозаключений. Основанный на попытке вживания в ее поэтику образ – сомнамбулическая абстракция – не кажется мне неверным. Это цветои жизнепонимание, в котором сплавлены способ переживания (проживания) жизни и переживание (проживания) цвета, остается базисным фактором развития художника. Даже когда цветопереживание объективизируется, как в «Справочнике по цвету», это системное, исследовательское неотделимо от экзистенции. Отчего же я сегодня испытываю неудовлетворенность? Что-то пропустил, не дописал… Не то чтобы Кирцова изменилась под влиянием обстоятельств – онато как раз художник абсолютной внутренней независимости: ни единого шага не сделает поперек собственных представлений о саморазвитии. Нет, это надо мной пытаются властвовать обстоятельства внешней жизни: нерадужные размышления о состоянии общества и современного искусства в целом. При чем тут Кирцова – при ее-то самососредоточенности, самостоянье? Чего-чего, а социальных аллюзий и вообще стремления к выходу вовне она отродясь не выказывала. От своего плана не отходила ни на йоту. Как оказалось (отвечаю только за свой опыт), нужны были кризисные моменты, переживаемые обществом и определенными изводами contemporary art, чтобы заметить: поэтическая оптика Кирцовой захватывает иные, внеположные чистому колоризму среды. Иными словами, живописная репрезентация художника обладает исторической чувствительностью.