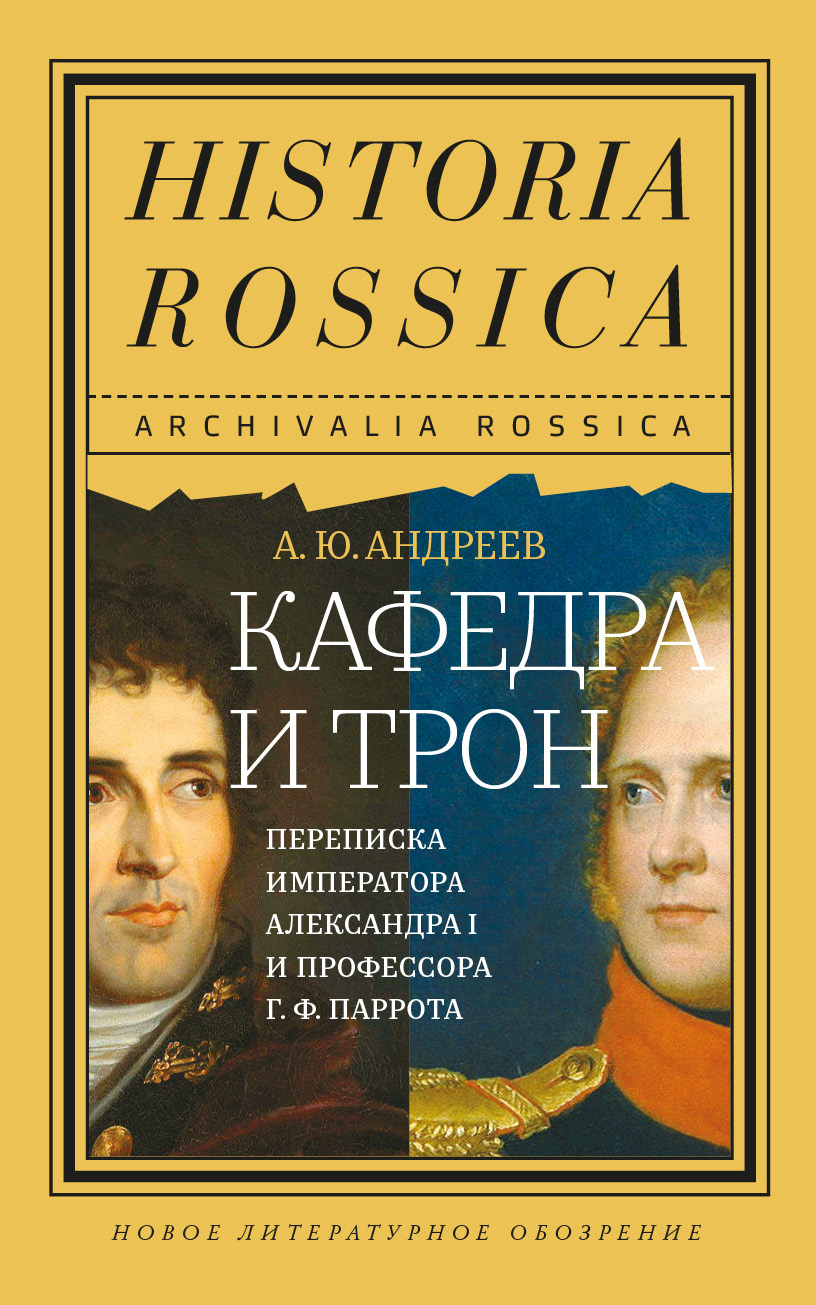в составе членов министерства: Чарторыйского, Потоцкого, Новосильцева, Строганова, а также Паррота. Именно этот комитет и должен был окончательно определить судьбу Акта. Его единственное заседание состоялось в конце ноября 1802 г. в доме у Новосильцева и длилось до трех часов ночи (лакей и кучер не дождались Паррота, думая, что тот остался ночевать, и ему пришлось идти домой пешком). На обсуждении Потоцкий, «хотя и не был другом министра», решительно возражал против предоставления университету судебной автономии, и лишь «споря до изнеможения» Паррот смог одержать верх [70].
В начале декабря 1802 г. текст Акта передали для ознакомления графу Завадовскому, который, вопреки ожиданиям, попытался внести в него собственные изменения, в частности опять-таки настаивая на отмене университетской юрисдикции. После неудачной попытки договориться с министром при посредничестве Муравьева Паррот явился утром 4 декабря к Новосильцеву, требуя, чтобы тот немедленно вел его к императору. Поскольку Александр был тогда занят, профессор написал ему тут же записку, где жаловался, что «всякий день и едва ли не всякий час новые приносит возражения графа Завадовского» против Акта постановления, который уже был согласован в Комитете и одобрен императором [71]. Очень характерно, что в этой записке Паррот сознательно смешивал рвение к общему делу (отстоять права университета) и личные отношения с императором: он просил или выслушать его, или удалить в немилость, подписав записку: «счастливейший или несчастнейший из ваших подданных». Все это, как и во многих других случаях во время их дружбы, подействовало на Александра I, и содержание Акта сохранилось во всей своей полноте.
Тем самым корпоративная университетская автономия впервые появилась в российском законодательстве и затем вошла и в последующие документы Министерства народного просвещения [72]. Наиболее важными высочайше утвержденными привилегиями, которые смог «завоевать» Паррот, были права университета управлять своими доходами, иметь собственную юрисдикцию и независимый суд для всех своих членов и их семей, самостоятельно избирать путем голосования в Совете университета профессоров на вакантные кафедры, а также на административные должности (ректора, деканов и т. д.), печатать ученые труды без цензуры и осуществлять цензуру на территории университетского учебного округа, выплачивать пенсии вдовам и сиротам профессоров; что же касалось самих профессоров, то через 25 лет их полный оклад обращался в пожизненную пенсию, которой каждый «может пользоваться, где сам за благо изберет».
Парроту удалось отстоять эти права не только благодаря личному влиянию на Александра I, но и потому, что российская власть была заинтересована в том, чтобы интегрировать основанный остзейским дворянством «местный университет» (Landesuniversität) в структуру управления Российской империи, т. е. передать в ведение Министерства народного просвещения и под прямую власть монарха, превратив его тем самым в Императорский, иначе говоря, в российский университет (Reichsuniversität) [73].
Это, впрочем, обещало дальнейшие трудности с местным дворянством, которые не замедлили проявиться уже весной 1803 г. Дело в том, что «Предварительные правила народного просвещения», принятые министерством в конце января 1803 г. [74], не только повторили основные принципы автономии, но и не предусматривали для Дерпта дальнейшее существование дворянских кураторов, а функции высшего контроля над университетом передавали одному из членов министерства со званием попечителя. В частности, кураторы должны были передать университетскую кассу в полное ведение Совета. Попечителем же Дерптского университета был назначен Ф. М. Клингер, друг Паррота, не имевший никакой связи с остзейским дворянством. А вот стремившийся к этой должности лифляндский граф Г. А. фон Мантейфель, напротив, получил назначение в Казанский учебный округ.
Реакцией ландтагов Лифляндии и Эстляндии стало то, что они отказались от дальнейших пожертвований в пользу университета и местных училищ (поскольку их интересы не будут больше представлены в их управлении). Кроме того, они пытались оспаривать назначение попечителя в Дерпт как противоречившее Акту постановления и особым привилегиям дворянства, выданным еще Петром I [75]. Обрушивались они с критикой и на дерптскую профессорскую корпорацию, якобы не способную самостоятельно пригласить достойных ученых в университет. Все это заставило Паррота – который с декабря являлся первым избранным ректором университета – встать на защиту себя и своих коллег перед лицом государя, чему и послужило его письмо от 16 апреля 1803 г., вызвавшее уже упомянутый сочувственный отклик на него Александра I («сожженное письмо»).
Последней попыткой дворянских кураторов сохранить свои должности стали их обращения в апреле и мае 1803 г. к министру внутренних дел В. П. Кочубею с просьбой, «чтобы мы участвовали в сочинении статутов, которые окончательно постановят управление университета, основанного на иждивении нашем» [76]. Благодаря усилиям Новосильцева, Чарторыйского и Клингера император полностью отклонил это требование (несомненно, сыграло свою роль и письмо Паррота). Кочубей написал об этом кураторам 8 июня 1803 г., после чего, передав в университет кассу и архив, они сложили полномочия [77].
Что же касается работы над Уставом, то она началась в профессорской корпорации Дерпта еще в феврале, а к концу марта был готов его детальный проект из 290 параграфов. Чтобы представить его на утверждение, университет по окончании семестра направил в Петербург делегата, которым, естественно, вызвался быть Паррот (причем он настоял на том, что должен ехать один – т. е. в очередной раз рассчитывал на свое личное влияние на императора! [78]). Действительно, судя по сохранившимся письмам Паррота в Дерпт, Александр I сам обсудил с ним отдельные пункты Устава и студенческих правил и внес правку (в частности, об участии представителей от студентов в заседаниях университетского суда) [79]. Не обошлось и без нового столкновения Паррота с графом Завадовским. По мнению профессора, министр намеренно затягивал дело, внося бесконечные поправки в уже одобренные на заседаниях министерства параграфы и ожидая, когда Паррот уедет из Петербурга к началу нового семестра, что позволило бы действовать бесконтрольно [80]. Среди изменений были весьма существенные: так, в параграф, где говорилось, что «университет принимает в студенты людей всякого состояния», министр дописал: «всякого свободного состояния». Эта поправка вызвала неприятие не только у Паррота, ратовавшего за доступ всех сословий к образованию, но и у многих членов министерства, которые сочли, что предложенное ограничение «может в чужих краях подать повод к неприятным заключениям и толкам» [81]. В итоге Паррот оставался в Петербурге до самого дня подписания Устава – 12 сентября 1803 г., а затем лично привез его экземпляр в Дерпт, где новые постановления были оглашены 21 сентября вместе с очередной похвальной речью Паррота в адрес Александра I [82].
Надо сказать, что торжественное оглашение Устава и введение в действие университетского суда вызывали недовольство у некоторых жителей Дерпта – там, например, с удивлением узнали, что под университетскую юрисдикцию подпадают даже арендаторы университетской земли. В этом смысле большой вес приобрела скандальная история, случившаяся с богатым