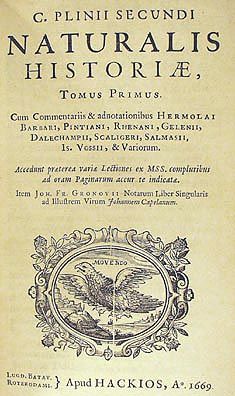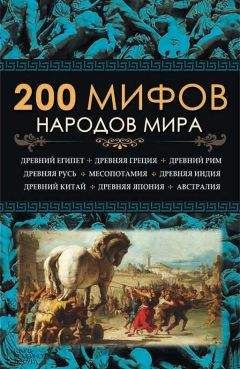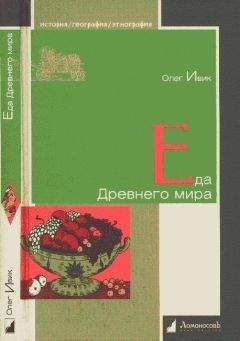новой структурой, найденной ни с того ни с сего воображением ученого. Скорее, она всегда является небольшим преобразованием существующих знаний. Человеческий мозг не творит ex nihilo, он всегда идет по чьим-то следам. Основная масса знаний просто переходит от одной теории в другую. Новизна появляется только на внешних границах нашего понимания, хотя иногда эти внешние границы лежат в основе наших убеждений.
Каждая новая научная теория опирается на колоссальную сложность нашего мировоззрения, и, в свою очередь, каждая истинная теория представляет собой новое знание, динамический элемент в эволюции этого самого мировоззрения.
Кун и, в большей степени, Фейерабенд и Лакатос уделяют особое внимание элементам прерывности в развитии науки, концептуальной пропасти между различными теориями. Я не хочу умалять значение того, что им удалось понять, но все же думаю, что они недооценивают накопительное свойство науки, которое столь же неоспоримо и которое играет для ее развития решающую роль, особенно в моменты наибольших изменений. Они не замечают, что в ходе научных революций меняется не то, чего можно было ожидать, а то, чего никто не ожидал.
Один из примеров – Эйнштейн, современный поборник концептуальных новшеств и научных революций. Когда в 1905 году Эйнштейн выдвинул специальную теорию относительности, он сделал это в ответ на кризис, подобный описанному Куном: галилеевско-ньютоновская относительность, казалось, не могла объяснить все результаты наблюдений. В частности, она казалась несовместимой с электромагнитной теорией Максвелла, эффективность которой для описания мира на рубеже веков становилась все более очевидной. В духе прерывности Куна или в соответствии с гипотетико-дедуктивной догмой для разрешения кризиса следовало создать новый теоретический фундамент, который бы радикальным образом отходил от теоретических предпосылок Галилея, Ньютона и Максвелла или совпадал с ними только в части эмпирических следствий.
Однако Эйнштейн сделал отнюдь не это. Он преуспел, руководствуясь противоположной стратегией: он допустил, что относительность Галилея и Ньютона в основе своей верна: в частности, верны идеи эквивалентности инерциальных систем отсчета и относительности скорости. Помимо этого, он допустил, что уравнения Максвелла и важнейший аспект теории Максвелла – существование физических полей – также верны. То есть он принял базовые качественные аспекты успешных теорий – те самые аспекты, которые, по мнению Куна, отвергаются в ходе научной революции! Объединение этих двух, казалось бы, противоречивых допущений стало возможным благодаря отказу от третьей гипотезы – об абсолютной одновременности, и этого оказалось достаточно для появления нового синтеза – специальной теории относительности. Эта третья гипотеза ранее негласно предполагалась, но никогда не высказывалась в явном виде. Она считалась присущей самому понятию временности и, таким образом, фактически априорным условием мышления.
Эйнштейн, таким образом, произвел революцию не благодаря тому, что опроверг старые теории и опробовал новые. Напротив, Эйнштейн со всей серьезностью отнесся к существующей теории – и отбросил нечто в самом априорном представлении о мире, то, о чем до него никто не задумывался. Эйнштейн не играл в новую игру в рамках существующих правил, он изменил сами правила игры. Время перестало быть тем, что прежде казалось столь очевидным. Оно перестало быть тем, что Кант считал априорной формой чувственности. Здравый смысл был опрокинут – и это при всем англосаксонском почитании здравого смысла.
Эйнштейн не отказался от качественного, фактологического знания предыдущих теорий, чтобы сохранить явления и верифицированные предсказания. Напротив, он встал лицом к лицу с этим фактологическим содержанием. В действительности его вера в это фактологическое знание была настолько самоотверженной, что он предпочел отказаться от одного из общепринятых постулатов здравого смысла, а именно от понятия одновременности. Не новые экспериментальные данные привели к большому концептуальному скачку, которым стала специальная теория относительности, а вера Эйнштейна в концептуальную пригодность теорий, которые, несмотря на очевидные противоречия в них, показали свою эмпирическую адекватность. Эта реконструкция логики научной революции практически прямо противоположна реконструкции Куна.
Специальная теория относительности – не единичный пример. Коперник не отказался от теоретической структуры Птолемея, чтобы придать пониманию явлений новое направление, обусловленное новыми данными наблюдений. Наоборот, благодаря полному погружению в птолемеевскую астрономию он обнаружил в недрах понятий эпицикла и деферента концептуальный ключ к полному переустройству мира. В новаторских теоретических конструкциях Коперника эпициклы и деференты остаются, но отбрасывается нечто, казалось бы, неоспоримое: идея неподвижности Земли.
Подобных примеров предостаточно. Поль Дирак разработал квантовую теорию поля и предсказал существование антиматерии на основе почти фанатичной веры в специальную теорию относительности и квантовую механику. Ньютон догадался о существовании всемирного тяготения благодаря своей твердой вере в третий закон Кеплера, а также благодаря Галилею, осознавшему, что движение определяется ускорением и не требует ни малейшего дополнительного эмпирического воздействия [46].
В 1915 году с Эйнштейном произошла его ярчайшая вспышка гениальности, когда он, опираясь на веру в свою собственную специальную теорию относительности и ньютоновское тяготение, обнаружил, что пространство-время искривлено. Во всех этих случаях вера в фактологическое содержание предшествующих теорий – в то качественное содержание, которое некоторыми современными философами науки рассматривается как почти несущественное, – создавала условия для гигантского скачка вперед.
Таким образом, реальность научных революций оказывается сложнее, чем реорганизация эмпирических данных на новой концептуальной основе. Речь идет о непрерывных изменениях на периферии и/или в основании нашего мышления о мире вообще.
Правила игры и соизмеримость
Чаще всего скачки в науке – это не решения поставленных проблем. Они происходят в результате обнаружения того факта, что проблема была поставлена неверно. Вот почему так трудно осмыслить научную эволюцию как четко поставленную проблему.
Анаксимандр не решал открытый вопрос вавилонской астрономии. Вместо этого он полностью переформулировал проблему астрономии. Он не прояснил, каким образом небеса движутся у нас над головами. Он понял, что небеса находятся не только над нашими головами. Птолемей не решал технические проблемы в системе Гиппарха, открыв новые окружности, по которым планеты могли бы двигаться с постоянной скоростью. Он постулировал, что планеты движутся с переменными скоростями, и не обращал внимания на аристотелевскую физику. Коперник не объяснял странные совпадения, имеющие место в птолемеевской системе, играя по правилам, продиктованным Платоном, в соответствии с которыми следовало бы объяснить изменения внешнего вида небес в терминах простых планетарных движений. Он полностью изменил саму игру и привел в движение Землю. Сходным образом Дарвин решил проблему, которая вообще не рассматривалась как проблема в биологии девятнадцатого века, поскольку его современники были убеждены, что уже знают ее решение.
И так происходит не только в случае великих научных скачков. В