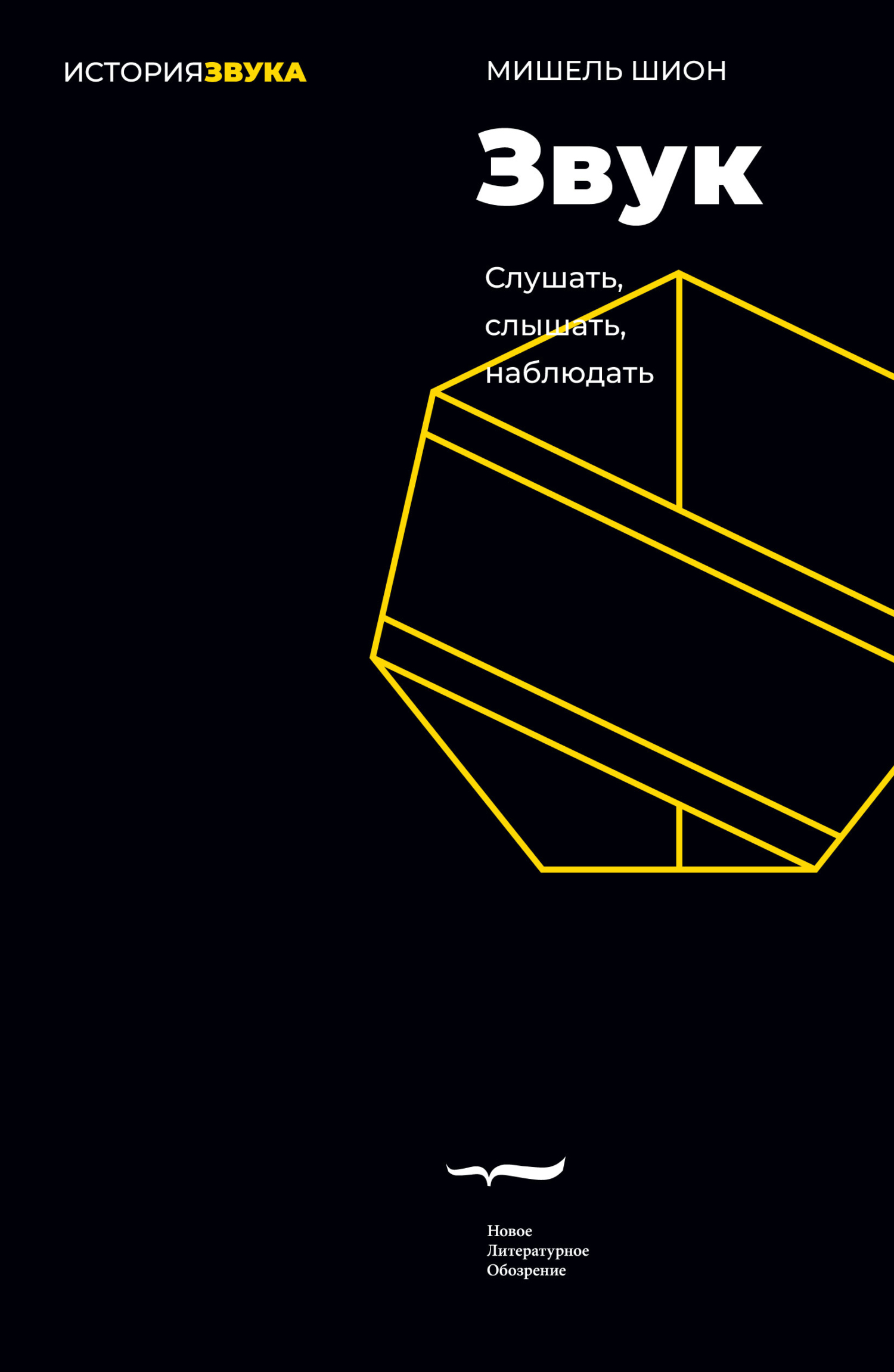при помощи гитарной струны, создает звук с комплексной массой, и, наоборот, тривиальный предмет (деревяшки или кухонные принадлежности) дает ноту.
В этом случае важнее уметь услышать, что за звук был создан и зафиксирован, чем «освоить» производство звука, создавая объект, отвечающий заданию. Может так случиться, что полученные звуки не отвечают или не совсем соответствуют тому, что было задано. Это не проблема, если это осознается. Но если не удается правильно воспринять то, что было создано, вот тут дело уже сложнее.
Впрочем, бывает, что участник намеревался произвести импульс при помощи короткого удара по предмету, а звуковое тело неожиданно дало продолжительный резонанс – и произведенный звук стал непрерывным ударом-резонансом. Тот, кто сосредоточится на освоении жестов (звуки должны подчиняться моей сознательной воле), откажется услышать то, что звук может быть чем-то другим, нежели отражением его намерения, и будет склонен минимизировать «нежелательный» резонанс.
Третий пример, в котором возникает проблема каузальности, а словесный анализ позволяет развивать слух: студент получил задание создать итеративный звук и, что вполне логично, использовал для этого рифленый предмет, состоящий из штанг и желобов, равноотстоящих друг от друга и приближенных: электрорадиатор, решетку, сетку, по которой он поскреб перкуссионным молоточком, палкой, ручкой. Если он слишком быстро проведет по предмету, звук перестанет быть итеративным и станет непрерывным и зернистым. Здесь снова количественное изменение скорости жеста определило качественный скачок от прерывистости к непрерывности.
Это упражнение, если оно как следует проверяется, также позволяет заметить и проблематизировать общепринятые корреляции.
Например, студенты, которым дано задание произвести зернистый звук, без дополнительных уточнений, интуитивно склонны придавать ему «комплексную» массу и произведут комплексное поскребывание или трение. Поскольку для них зернистость имеет шумовой характер, у них появляется стереотипная ассоциация со звуками, которые сами призваны быть шумовыми, поскольку они комплексные, тогда как существует ряд тональных звуков, музыкальных и немузыкальных (скрип тормозов, ноты, исполняемые на флейте сворачиванием языка, и самый распространенный пример – тремоло на скрипке), имеющих зернистость.
Во время этого упражнения мы не упускаем случая указать автору звука на то, что он, возможно, руководствовался в своем замысле чисто автоматическими ассоциациями («зернистости» с «немузыкальным звуком») и что избавление от этих ассоциаций позволит создавать более разнообразные звуки.
Именно поэтому представляют интерес такие задания, в которых оговаривается всего два или три критерия, а выбор остальных остается на долю фантазии, изобретательности или случая. Если бы с самого начала давалось исчерпывающее описание, не возникало бы повода осмыслять подобные стереотипы.
Еще один пример: участник хотел создать тональный звуковой объект и записал, как он свистит на одной ноте. Слушая свой свист, зафиксированный на фонограмме, он выяснил, что параллельно тональной ноте этот звук содержит важную часть «дыхания» («комплексный» звук), которая не входила в его намерения и стала результатом вышедшей изо рта волны воздуха, которую поймал микрофон.
С другой стороны, у него предзаданное и стереотипное представление о звуке, который он произвел, потому что обычно он слушал его со среднего расстояния. Когда он сам свистит, записывая себя звуковым «крупным планом», он не слышит, что крупный план микрофона меняет баланс составляющих звука, то есть приводит к появлению новых характеристик, которые не слышны на определенном расстоянии.
На самом деле требуется реализовать и услышать не звук «в себе», а уловленный и зафиксированный звук.
В данном случае речь идет лишь об упражнении под руководством наставника, его забавно выполнять, несмотря на то, что оно лишено эстетической или, как сегодня говорят, «игровой» задачи. Однако очевидно, что процесс производства звуков нельзя лишать удовольствия. Когда я как композитор, сочиняющий конкретную музыку, произвожу «звуковые съемки», всегда присутствует физическое удовольствие и своего рода аудиофоническое закольцовывание между звуком, который я извлекаю, и звуком, который слышу, что позволяет мне слышать звуки живо и делает мой слух менее размытым. Но потом, когда я заново прослушиваю эти звуки, чтобы сделать на их основе композицию, мне нужно очень трезво слушать то, что зафиксировалось, и отстраниться от ситуации эрго-слушания.
Инструменталист, конечно, может научиться слушать себя напрямую, но для того, чтобы этого добиться, понадобятся годы упражнений с одним и тем же источником звука и преподаватель, со слухом которого исполнитель будет, если так можно выразиться, идентифицироваться. Некоторые инструменты требуют крайне критического слушания: скрипач, в частности, должен на слух проверять то, что делает, так как ноты не задаются его прикосновениями. Но всегда приходится обучаться заново пользоваться источниками звука с малознакомыми возможностями, и тут даже лучший музыкант снова становится дебютантом. Наконец, трудность и сама суть упражнения состоит в том, что сложно слушать звуки по одному, слышать отдельные звуки, а не стандартную модель.
В реальности in situ мы вынуждены создавать для некоторых повторяющихся и циклических звуков (шума машин, которые едут по улице) среднестатистическую модель, в которой каждый звук оказывается частным случаем ее применения. Но когда мы наблюдаем фиксированный звук в редуцирующем слушании, мы должны отделять его от общего образа, от множества образов, которые накладываются на него и представляют собой разновидности звука одной и той же формы, подчиняющиеся одной и той же порождающей модели. Например, мы не привыкли интересоваться звуком проезжающего автомобиля, взятым изолированно, как именно этим звуком (и никаким другим), и исходим из того, что все эти звуки похожи, потому что все соответствуют модели в форме «дельты». Это как сказать, что у всех горных вершин похожая форма, если смотреть на них с равнины, однако среди них есть заостренные, есть зубчатые…
8. Слушать – значит действовать
Мы живем с идеей, что восприятие – пассивная вещь, механизмы которой, когда ребенок вырастает, усваиваются раз и навсегда. Хотя мы тратим немалую часть жизни на создание эмоционального баланса и обогащения наших интеллектуальных способностей, мы довольствуемся восприятием, застывшем на стадии очень умеренной структурации. Глаза и уши для нас – просто-напросто отверстия, через которые мы пропускаем в мозг визуальные и звуковые образы.
Это подразумеваемое презрение к перцептивной функции опровергается всеми научными исследованиями. Такие ученые, как Дьёрдь фон Бекеши, выделили в слухе физиологические уровни, феномены «умного слушания». Если наш слух является умным уже в своем самом элементарном функционировании, можно допустить, что он может стать еще умнее. Но для чего нам мог бы пригодиться более умный слух?
Мы не называем «умным» тот специфический слух, который развивается у любого человека в области его специализации. Так некоторые люди распознают марку автомобиля по звуку мотора, а настройщик фортепиано определяет строй музыкального инструмента. Речь идет о более общем структурировании восприятия.
Что происходит, когда наше восприятие вещей обостряется? Меняются наши отношения с миром. Информация, которую мы получаем и которая представляет собой ту материю, из которой мы составляем наши мнения и мысли, становится богаче и разнообразнее.
Идет ли речь при натренированном восприятии о том, чтобы сдернуть покров иллюзии, увидеть реальность за видимостью? Скорее, цель в том, чтобы осознать наше «воспринимающее тело» и вернуть его, сделав более чутким и активным, в тот океан сообщений, в котором оно пребывает.
Речь о том, чтобы получить средства для более утонченного восприятия не при помощи какой-то моральной дисциплины или книжной деконструкции идеологии, а путем бескорыстного и активного упражнения, внимательно изучающего разные уровни и развивающего наблюдательность и умение учиться у вещей.
Наблюдение как своего рода созерцание сегодня довольно сильно обесценилось. Или же практикуется в довольно грубой форме.