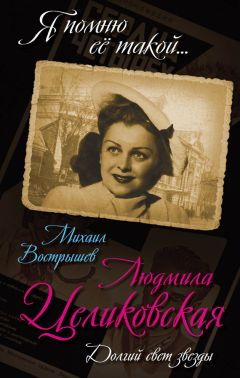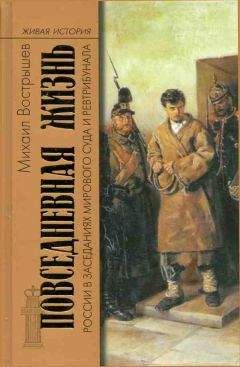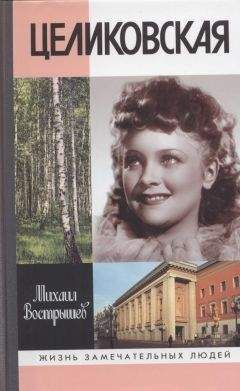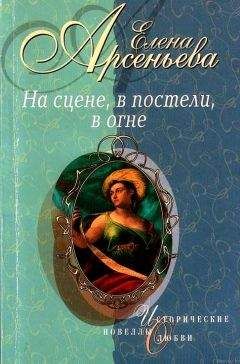Ознакомительная версия.
Пятьдесят лет жизни Целиковская отдала Вахтанговскому театру и не представляла себя вне его. Она с грустью признавалась, что если не играет в театре двадцать дней в месяц, то начинает хандрить. Уже будучи в звании народной артистки РСФСР, она соглашалась на самые малюсенькие роли, где у нее за весь спектакль были одна-две фразы, и всегда с радостью исполняла и репетировала их без всяких скидок на незначительность.
Около сорока существенных ролей удалось сыграть ей в своем театре. Значительными явлениями в театральной жизни стали ее роли в спектаклях Вахтанговского театра: «Мадемуазель Нитуш», «Много шума из ничего», «Соломенная шляпка», «Глубокие корни», «Ромео и Джульетта», «Идиот», «Коронация», «Маленькие трагедии», «Дамы и гусары», «Старинные русские водевили». Ее нередко хвалили в прессе, но как-то натужно, набором штампованных фраз. Похоже, что это вообще был стиль советской театральной критики, которая с каждым годом все больше утрачивала тон блестящих театральных фельетонов дореволюционной России.
Ф. Эрве, «Мадемуазель Нитуш».
«Если вести счет молодых после Г. Пашковой, то прежде всего вспоминается Л. Целиковская, в очередь с нею играющая Нитуш».
«Театр», 1946.Д. Гоу и А. Дюссо, «Глубокие корни».
«Целиковская рисует обаятельный образ девушки, несколько наивной, чистой, убежденной в красоте своих чувств; девушки, которую еще не успели растлить расистские идеи ее отца».
«Правда Украины», 1947.Ф. Достоевский, «Идиот».
«Л. Целиковская верно раскрывает порывистый и страстный характер этой девушки, полюбившей всей силой своей властной души кроткого и беспомощного князя. Артистка убедительно передает воинственность вызова этой надменной натуры своей опасной сопернице и взрыв внезапного отчаяния при неожиданном поражении. Но у Достоевского образ глубже».
«Вечерняя Москва», 1958.А. Арбузов, «Потерянный сын».
«Людмилу Целиковскую почти всегда можно было узнать и на экране, и на сцене по ее манере держаться, интонациям, по массе мелочей, присущих только ей. И казалось, что иной она быть не может. Ее сценическим созданиям, обаятельным и жизнерадостным, прощали их похожесть друг на друга. В роли Ирины актриса преодолела привычное, и мы стали свидетелями драгоценного процесса – обогащения художественной палитры актрисы новыми красками».
«Театральная жизнь», 1961.А. Фредро, «Дамы и гусары».
«Целиковской уже 58 лет, а она играет задорную кокетку, полную очарования и загадочных женских чар».
«Театральная жизнь», 1977.Ну разве возможно по этим казенным фразам представить игру в театре Целиковской?! Они бесконечно далеки от театральных зарисовок и рецензий Власа Дорошевича. Впрочем, мы очень мало представляем себе, чем прославились на сцене знаменитые русские комики и трагики XIX века. XX век подарил нам кино, и мы наконец-то можем хоть чуточку представить талант артистов XX века, уже ушедших в мир иной. К сожалению, не осталось почти ни одного телеспектакля Вахтанговского театра с участием Целиковской. Остаются лишь театральные анекдоты о курьезных случаях с тем или иным артистом. Но зато мы имеем возможность прикоснуться к тайнам актерского мастерства и вообще театрального искусства, которые исповедовала Целиковская, заглянув в ее записные книжки, куда она время от времени заносила свои мысли:
«Мне всегда было теплее в театре и немного холоднее в кино. При условии, если роль хоть чуть-чуть.
Встреча с характерами в пьесах Островского – это все равно что встреча с живым, интересным, малознакомым тебе человеком, которого тебе непременно захочется узнать поближе и подружиться с ним. Герои же многих нынешних пьес лишь напоминают живых людей. В них нет ни живого изобилия чувств, ни простоты, ни иронии. О серьезном они говорят или тривиальности, или как ораторы с трибуны. А о смешном – слишком вульгарно и редко остроумно. Они не наделены способностью думать. У них нет своей оценки жизни – за них все решает автор.
В античной трагедии существовал рок, то есть все, что происходило с героями, все ошибки за ошибкой, которые они совершали, о них зритель знал – рок все покарает, герои трагедии с самого начала обречены на гибель.
В нынешних же пьесах другая крайность – над судьбой героев властен некий «благой промысел». И какие бы жестокие и душеспасительные сцены ни рождались в голове и пьесе драматурга, зритель твердо знает: ни один волос не упадет с головы героя. Где же тут родиться подлинному драматическому искусству? Пустота, эффектная нарочитость и иллюстративность. Причем, как правило, в наших пьесах герои очень много рассказывают о себе, вернее, все время аттестуют себя, и это является почти единственным средством автора раскрыть образ.
Театр – это полнейшая безыскусственность с величайшей условностью вместе.
Наши современные пьесы читаешь и смотришь всего один раз и сразу сумеешь их пересказать. А попробуйте пересказать «Гамлета», или «Короля Лира», или пьесы Чехова? Не стоит и пытаться, потому что они не поддаются ни прочтению, ни пересказу. Они живут и живы только в виде драматических образов. Образы, события, действия не натуралистически воспроизводят жизнь, они как бы повторяют и отражают ее. Они как бы пересказывают ее (по выражению Эйзенштейна: «Нужен хороший пересказ») в условной форме искусства.
Искусство по своей природе иносказательно, ассоциативно и метафорично.
В чем условность и что такое условность? Значит ли это, что зритель и актер на сцене сразу о чем-то условились, то есть зритель принял или не принял те правила игры, по которым поставлена и играется данная пьеса? Только с условием соблюдения «тайного сговора» со зрителем можно заставить его поддаться иллюзии театра в трехчасовом спектакле.
Когда читаешь настоящую драматургию, то ждешь, как будет реагировать герой на какое-то внезапное событие, призванное его ошеломить.
Я с нетерпением ждала, что скажет Макбет, когда появляется тень Банко. В первый раз Макбет испуган и молчит. Во второй раз опять к трону – опять молчит. И, наконец, в третий раз появляется тень Банко.
Макбет. Кто это сделал, лорды?
А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает.
Что движет актером в творчестве? Приблизиться к замыслу писателя? Может быть, жажда познания жизни? Жажда известности – аплодисментов? Жажда проявить себя в каких-то новых неожиданных качествах? Привычка к труду? Честолюбие?
А может быть, еще что-то?! Жажда изменить людей, повлиять на них.
Мы приобщены к лучшей в мире профессии – актерской, и вместе с тем каждый из нас остается самим собой.
Единственно, когда я бываю счастлива, – это на репетициях. Очень люблю момент начала. Роль для меня всегда чудовище, изменчивое, неуловимое, – зверь, за которым нужно охотиться, и обязательно победить. Я счастлива своей работой, актриса – единственная профессия, которую я желала для себя.
Однажды Лоутона, знаменитого английского актера, которого мы видели во многих фильмах (а мне посчастливилось и повстречаться с ним в пятидесятые годы на одном из зарубежных фестивалей), спросили, во имя чего он играет на сцене. Актер ответил: «Люди не знают, каковы они на самом деле, и мне кажется, что я могу показать им это».
Люди. Человек. Отношения людей. Их взаимосвязь. Вот что, по моему мнению, и составляет цель театральной мысли.
Я всю жизнь пою. И считаю, что непоющий актер – это половина актера. Но я могу петь только в образе, в действии. Я не могу петь в концерте, я должна петь, как говорят в театре, «в задаче». И совершенно неприемлемо, когда поют драматические актеры на эстраде. Но это мое мнение.
Люблю серьезную музыку. Среди современных композиторов мне близки А. Петров, Р. Щедрин. Эстраду люблю меньше, потому что чаще всего это вторично. Считаю Аллу Пугачеву талантливым человеком, но ей нужен хороший режиссер.
Мой любимый поэт Пастернак как-то сказал: «Люди в театре смеются и плачут не оттого, что им смешно или грустно, а оттого, что путь к ним найден верно». Вот это, мне кажется, и есть кредо современного актера.
Я поклонница оптимистического искусства. У Моэма, уже очень старого человека, как-то спросили, что он больше всего ценит. И писатель ответил: доброту. Искусство должно быть добрым, но не добреньким. Мне претит на сцене или на экране жестокость, нагромождение всяческих ужасов.
Короткие мгновения взлета, успеха очень скоро проходят без всякой гарантии на будущее – такова наша профессиональная специфика.
Вполне признавая неограниченные возможности кино и его тотальное воздействие на зрителей, в тайниках своего сердца я отдала свою любовь театру. Я люблю театр за ежевечерний контакт со зрителем. Люблю возможность эксперимента и импровизации в каждом спектакле. Люблю, придя домой с очередного спектакля, думать о том, что в следующий раз сыграю так, как, по моему мнению, не удалось сегодня. Я люблю эту синицу в небе, которую пытаешься ухватить за хвост с каждой новой ролью, с каждым спектаклем, каждый вечер, когда открывается занавес… И все-таки синица так и остается недосягаемой».
Ознакомительная версия.