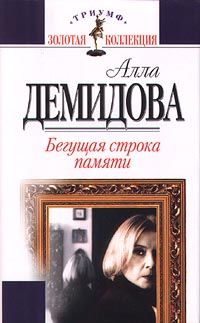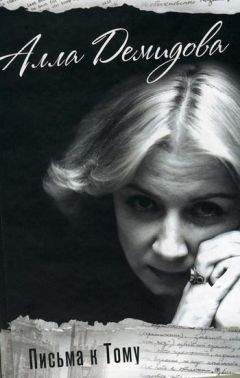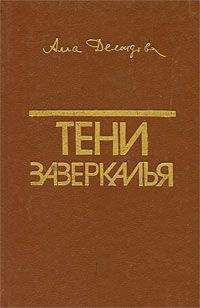Ознакомительная версия.
На осенних гастролях в Тбилиси за кулисы пришел молодой, нам неизвестный фотограф и стал показывать снимки Высоцкого, которые только что сделал. Он явно гордился своей работой. Володя плохо себя чувствовал, был в нервном, раздраженном состоянии и не очень внимательно перебирал эти фотографии. Последнее время он стал уставать от бесконечных писем, поклонников, самодеятельных фотографов, плохих записей его песен, любителей автографов.
Иногда уже не делая в этом различая истинного и наносного.
Фотограф попросил подписать одну из фотографий. Володя, насторожившись, спросил: «Зачем?» – «Я же автор!» Но Володя, уже не стесняясь меня, грубо выгнал этого автора. Я пыталась успокоить Володю, не очень понимая причину этой неожиданной грубости, и вот эта фотография сейчас висит над гробом Высоцкого и провожает его в последний путь.
1
Гамлет – основная и любимая роль Высоцкого, Гамлета он играл 10 лет. И Гамлет был последней ролью, которую Высоцкий играл перед смертью.
По природе своей публичной профессии актер всегда на виду. Нечего сетовать, что жесткий свет софитов безжалостно освещает даже закрытые стороны жизни. Пенять на это не приходится – это входит в профессию. «На виду» не только сегодняшняя творческая жизнь актера, «на виду» у всего света подчас рождаются его даже самые далекие и еще не ясные творческие замыслы. Так случилось и со мной: в одном из своих самых первых интервью я, может быть и несколько легкомысленно, поделилась с читателями своей потаенной мечтой. Интервью это так и называлось: «Почему я хочу сыграть Гамлета».
Высоцкий как-то подошел ко мне в театре и спросил в упор: «Ты это серьезно? Гамлет… Ты подала мне хорошую мысль…»
Когда Любимова спросили, почему он поручил роль Гамлета Высоцкому, он ответил: «Я считал, что человек, который сам пишет стихи, умеет прекрасно выразить так много глубоких мыслей, такой человек способен лучше проникнуть в разнообразные, сложные конфликты: мировоззренческие, философские, моральные и очень личные, человеческие проблемы, которыми Шекспир обременил своего героя.
Когда Высоцкий поет стихи Пастернака, то это что-то среднее между песенной речью и песней. Когда говорит текст Шекспира, то есть в этой поэзии всегда музыкальный подтекст».
Этот ответ Любимова поздний. Отношения Любимова и Высоцкого были неоднозначные и неровные. Несколько раньше на этот же вопрос Любимов отвечал так:
«Как Высоцкий у меня просил Гамлета! Все ходил за мной и умолял: „Дайте мне сыграть Гамлета! Дайте Гамлета! Гамлета!“ А когда начали репетировать, я понял, что он ничего не понимает, что он толком его не читал. А просто из глубины чего-то там, внутренней, даже не знаю, что-то такое, где-то, вот почему-то: „Дайте Гамлета! Дайте мне Гамлета!“»
Высоцкий действительно уговаривал Любимова ставить «Гамлета». Любимов долго не соглашался.
Репетировали мы «Гамлета» на Таганке долго. Около двух лет. Премьера состоялась 29 ноября 1971 года.
Главным звеном в спектакле стал занавес. Давид Боровский, художник почти всех любимовских спектаклей, придумал в «Гамлете» подвижный занавес, который позволял режиссеру делать непрерывные мизансцены. А если у Любимова появлялась новая, неиспользованная сценическая возможность, его фантазия разыгрывалась, репетиции превращались в увлекательные импровизации – всем было интересно.
Когда после комнатных репетиций вышли на сцену, была сооружена временная конструкция на колесах, которую сзади передвигали рабочие сцены. За период сценических репетиций стало ясно, что конструкция должна легко двигаться сама собой. Как? Может быть, повернуть ее «вверх ногами», то есть повесить на что-то сверху. Пригласили авиационных инженеров, и они над нашими головами смонтировали с виду тоже легкое, а на самом деле очень тяжелое и неустойчивое переплетение алюминиевых линий, по которым занавес двигался вправо-влево, вперед-назад, по кругу. Эта идея подвижного занавеса позволила Любимову найти ключ к спектаклю, его образ. Потом в рецензиях критики будут, кстати, в первую очередь отмечать этот занавес и называть его то роком, который сметает все на своем пути, то ураганом, то судьбой, то «временем тысячелетий, которые накатываются на людей, сметая их порывы, желания, злодейства и геройства»; в его движении видели «дыхание неразгаданных тайн». Занавес существует в трагедии как знак универсума, как все непознанное, неведомое, скрытое от нас за привычным и видимым. Его независимое, ни с чем не связанное движение охватывает, сметает, прячет, выдает, преобразуя логическую структуру спектакля, вводя в него еще не доступное логике, то, что «философии не снилось»…
А главное – такой занавес давал возможность освободиться от тяжелых декораций, от смен картин, которые останавливали бы действие и ритм. Одно событие накатывало на другое, а иногда сцены шли зримо в параллель… По законам театра Шекспира, действие должно было длиться непрерывно. Пьеса не делилась на акты. Занавес в нашем спектакле позволял восстановить эту шекспировскую непрерывность и в то же время исполнял функцию монтажных ножниц: короткие эпизоды, мгновенные переброски действия, перекрестный, параллельный ход действия, когда на сцене чисто кинематографическим приемом шла мгновенная переброска сцены Гамлет – Офелия на подслушивающих эту сцену за занавесом Клавдия и Полония. Или в сцене Гертруда – Гамлет один лишь поворот занавеса позволял зрителю увидеть предсмертную агонию Полония… Громоздкому театральному Шекспиру в кинематографе Любимов противопоставлял легкого, современного кинематографического Шекспира в театре.
Ну а пока, на репетициях, мы, актеры, дружно ругали этот занавес, потому что он был довлеющим, неуклюжим, грязным (занавес был сделан из чистой шерсти, и эта шерсть, как губка, впитывала всю пыль старой и новой «Таганки»), но главное – от ритма его движения зависели наши внутренние ритмы, мы должны были к нему подстраиваться, приноравливаться; к тому же скрип алюминиевой конструкции иногда заглушал наши голоса.
На одной из репетиций шла сцена похорон Офелии, звучала траурная музыка, придворные несли на плечах гроб Офелии, а за ним двигалась свита Короля (помню, перед началом сцены я бегала в костюмерную, рылась там в черных тряпочках, чтобы как-то обозначить траур), так вот, во время этой сцены только мы стали выходить из-за кулис, как эта самая злополучная конструкция сильно заскрипела, накренилась и рухнула, накрыв всех участвующих в сцене занавесом. Тишина. Спокойный голос Любимова: «Ну, кого убило?» К счастью, мы отделались вывихнутыми ключицами, содранной кожей и страхом – но премьера отодвинулась еще на полгода из-за необходимости создания новой конструкции.
Через полгода были сделаны по бокам сцены крепкие железные рельсы, между ними шла каретка, которая держала, как в зажатом кулаке, тяжелый занавес. Занавес в своем движении обрел мобильность, легкость – и с тех пор стал нести как бы самостоятельную функцию. Он был страшный, коричнево-серый, плетенный вручную на полу нашего фойе умелыми руками студентов художественных училищ. Несколько дней и ночей они плели этот уникальный занавес. Каждый взял себе квадрат сетки и начал на нем что-то вывязывать согласно собственной фантазии. Естественно, у каждого получилось что-то свое. Некоторые из нас тоже к этому приложили руки. Я, например, знаю, что нижний левый край занавеса – мой.
Иногда, при особом освещении, занавес походил на разросшуюся опухоль с многочисленными метастазами, иногда на просвет казался удивительно тонкой, красивой, ажурной паутиной – как флером времени отделяя житейскую реальность от иррационального; иногда тяжелой массой налетал на хрупкую фигуру Гамлета, иногда просто выполнял функцию трона: в середину занавеса удобно садились Король и Королева; иногда на нем, как на качелях, раскачивалась Офелия, иногда он был плащом и одновременно ветром в сцене Гамлета, Горацио и Марцелла – одним словом, функции занавеса были многочисленны, и в каждой сцене он выполнял какую-нибудь свою роль.
Наверху, над сценой, на рельсах справа и слева сидели рабочие сцены, которые, кстати, знали спектакль до самых мельчайших подробностей, до самых неожиданных интонаций, потому что вынуждены были там сидеть на каждой репетиции и на каждом спектакле от начала до конца. Рабочий слева управлял движением занавеса, он сидел в каком-то кресле, похожем на гоночный автомобиль, с многочисленными рукоятками. Он ездил в своем кресле вперед и назад, а рукоятками поворачивал занавес в любом направлении. На репетициях и в первые годы спектакля там сидел красивый рыжий парень в клетчатой рубашке, с прекрасными вьющимися волосами и бакенбардами, он курил «Мальборо», пепел небрежно стряхивая на наши головы. Вид у него был как за рулем «альфа-ромео». Рабочий же справа был полная ему противоположность – маленький, неказистый, незапоминающийся. Единственное, что его выделяло, – белые перчатки на руках. В мешке у него сидел живой петух, которого он по ходу действия доставал и выставлял в правое верхнее окно сцены. Предполагалось, что петух должен кукарекать и возвещать начало действия и роковых событий. Петух, конечно, сопротивлялся. В то время суток, когда шел спектакль, петухи обычно спят. Наш петух не отличался от других, и, когда его доставали из мешка и сильно встряхивали – так, что летели перья, – он лишь изредка издавал жалкое кудахтанье. Потом крик петуха пришлось записать на пленку. Во всяком случае, петуха мне было жалко. И если за кулисами нужно было настроиться на слезы (например, когда я, Гертруда, уже со слезами выхожу на сцену, рассказывая о гибели Офелии), я всегда смотрела на этих несчастных петуха и рабочего – и слезы градом текли у меня из глаз; если же мне нужно было настроиться на помпезность, торжественность, официальную улыбку – я смотрела вверх налево, на рыжего рабочего, на его царственную позу, на его расслабленную фигуру «прожигателя жизни» – моя спина невольно выпрямлялась, и я Королевой выходила на сцену. Я, конечно, поделилась с Высоцким своими наблюдениями; мы долго потом играли этими ассоциациями, и даже на других спектаклях у нас выработался условный язык: эту сцену надо проводить «справа» или «слева»?
Ознакомительная версия.