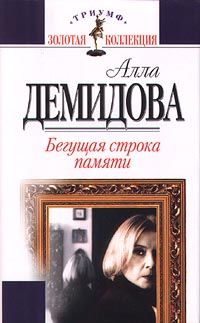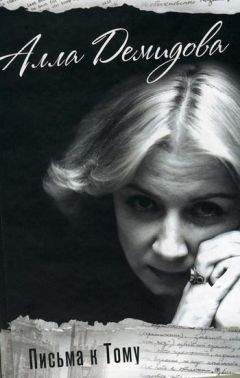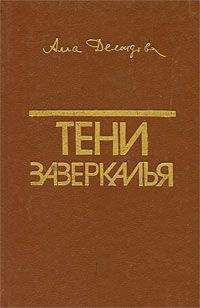Ознакомительная версия.
Гаев с Лопахиным уехали в город на торги, а Раневская затеяла бал, где Шарлотта показывает фокусы. Да какие фокусы! «Вот очень хороший плед, я желаю продавать. Не желает ли кто покупать?» – ерничает Шарлотта. «Ein, zwei, drei!» – выходит из-за пледа Аня – на продажу! «Ein, zwei, drei!» – выходит Варя – тоже продается, но никто не покупает. Вокруг Раневской крутится фантасмагория: кто-то ее о чем-то просит, другой приглашает на «вальсишку», а рядом Дуняша выясняет отношения с Епиходовым. Этот трагический ералаш кончается нелепым выстрелом револьвера Епиходова и ударом палки Вари по голове Лопахина. Монолог Лопахина – «Я купил!..». После напряженного ожидания, после клоунады и ерничания – истерика Раневской: «А-а-а!..» И на фоне этих рыданий – беспомощные слова Ани о новой прекрасной жизни.
В апреле, вечерами, начались наконец репетиции с Эфросом. Пошли с первого акта и все заново. Роли более или менее мы уже знаем, хоть и ходим по мизансценам с книжками. Я, как всегда, со шпаргалочками, рассованными по всем карманам. Эфросу это забавно. Посмеивается. Относится к нам, как к детям, которых надо чем-то занимать и поощрять. Предостерегая нас от сентиментальности, говорил, что лучше уйти в другую крайность – в ерничание, хотя успех возможен только тогда, когда гармонично сочетаются расчет и ум с сердечностью, детскостью, открытостью. Мне все очень нравится. И его юмор, и посмеивание, и тоже детская заинтересованность, когда что-то получается.
Эфрос ходит с нами вместе по выгороженной площадке – репетируем мы пока на малой сцене – так же, как и мы, с книжкой и быстро-быстро говорит, почти обозначая интонацию и мизансцену. Потом просит повторить, оставаясь на сцене. Но без него ритмы сразу падают, актеры садятся на свои привычные штампы. Эфрос не сердится. Продолжает дальше.
Выход Раневской. Выбегает так же по-юношески легко, как и Аня, чтобы зрителям даже в голову не пришло, что это Раневская. Они привыкли, что она должна «появляться». Мне хорошо – я не видела ни одной актрисы в роли Раневской, поэтому во все глаза смотрю на Эфроса и копирую его как обезьяна. Даже интонацию. Стараюсь схватить быструю манеру его речи. Почти скороговорка, так как слова неважны, они ширмы, ими только прикрываются.
Выбежала, натолкнулась глазами на Лопахина, который стоит с открытыми для объятий руками, не узнала его, прошла мимо и сразу отвлеклась – «детская»: «Я тут спала, когда была маленькой», – интонация вверх. И закончила с усмешкой: «И теперь я как маленькая», – интонация вниз.
Пока не разбираюсь – что, почему, зачем. Это потом с этими вопросами я буду приставать к Эфросу, пока окончательно не почувствую его манеру и характер, чтобы мысленно за него отвечать себе на все вопросы.
Утром Эфрос репетирует во МХАТе, вечером приходит к нам. Как, наверное, ему странно и непривычно работать с нами. Да и мы привыкли к другой манере. У нас тоже не бывает застольного периода, но с Эфросом надо работать почти с голоса, то есть по интонациям понимать, чего он хочет.
В конце апреля переходим на большую сцену. Там уже стоит выгородка. В «Вишневом саде» все крутится вокруг вишневого сада. Как в детском хороводе – а сад в середине. Левенталь сделал на сцене такой круг – клумбу-каравай, вокруг которого все вертится.
На этой клумбе вся жизнь. От детских игрушек и мебели до крестов на могилах. Тут же и несколько вишневых деревьев (кстати, и в жизни, когда они не цветут, они почти уродливы – маленькие, кряжистые, узловатые). И – белый цвет. Кисейные развевающиеся занавески, «…утренник, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету». Озноб. Легкие белые платья. Беспечность. Цвет цветущей вишни – символ жизни, и цвет белых платьев, как саванов, – символ смерти. Круг замыкается.
То, что, казалось, мы уже нашли, репетируя на малой сцене, – на большой потерялось. Начинаем с начала первого акта. Опять Эфрос ходит вместе с нами и за нас читает текст. Главное – очень внимательно за ним следить и ничего не упустить. Теперь я понимаю, что первый акт – это вихрь бессмысленных поступков и слов. Слова – ширмы. Ими прикрывают истинное страдание. Но иногда сдерживаемое страдание вырывается криком: «Гриша! Мой мальчик!.. Гриша!.. Сын! Утонул!..» И сразу: «Для чего? Для чего?!» – это спрашивать надо очень конкретно – почему именно на меня такие беды. А потом, смахнув слезы, почти ерничая: «Там Аня спит, а я поднимаю шум».
Нас, исполнителей, потом будут упрекать в однозначности, в марионеточности, да и сам Эфрос в своей книжке будет вздыхать об объемности ролей, но где, например, в Москве взять актера на роль Гаева, который сыграл бы объемно? Разве что Смоктуновский… Потом мы увидим Смоктуновского в роли Гаева в телевизионном спектакле Хейфица, а Эфрос уже настолько привыкнет к нам, что скажет: не нужен нам никакой Смоктуновский, Виктор Штернберг играет Гаева прекрасно и точно.
А что касается марионеток… Ведь натурализм «Вишневого сада» в Художественном театре, как известно, не нравился Чехову.
Андрей Белый о Чехове говорил: «натурализм, истончившийся до символа». А разве можно играть объемно символ? Сразу скатишься в быт. Символ – это знак. «Вишневый сад» – пьеса не о дворянах и не об интеллигентах, а о марионетках. Только марионеточный водевиль усложняется темой смерти.
После 21 апреля мы репетируем «Вишневый сад» только по средам – в остальные дни Эфрос занят, выпускает во МХАТе «Эшелон».
Эфрос приходит к нам вечером, очень усталый. Видно, что плохо себя чувствует, часто сосет валидол. Как-то на репетицию не пришел Шаповалов – Лопахин. Помреж сказала, что у Шаповалова «колет сердце». Эфрос репетицию отменил. Мы, расстроенные, разошлись по домам. Я послала телеграмму Высоцкому в Париж: «Если сейчас не приедешь – потеряешь Лопахина».
С 17-го мая пошли регулярные репетиции «Вишневого сада». Теперь Эфрос был целиком наш.
26 мая к работе подключился Высоцкий. Приехал с бородой. Смеется, что отрастил ее специально для Лопахина, чтобы простили опоздание.
Тема «Вишневого сада», во всяком случае – нашего спектакля, это не прощание с уходящей дворянской культурой, а тема болезни и смерти. Это не быт дворянский умирает, а умирает сам Чехов.
Туберкулез медики называют веселой болезнью. А сам Чехов часто цитировал Ницше, сказавшего, что больной не имеет права на пессимизм. Туберкулез обостряет ощущение окружающего. Озноб. Умирают в полном сознании. И в основном на рассвете, с воспаленной ясностью ума. Весной. И первый акт «Вишневого сада» Чехов начинает весенним рассветом.
«Я умираю. Ich sterbe» – последние слова, сказанные Чеховым перед смертью. «Жизнь-то прошла, словно и не жил, – говорит в конце „Вишневого сада“ Фирс. – Я полежу… Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего… Эх ты… недотепа!..» И далее ремарка: «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву». Это последние слова, написанные Чеховым в «Вишневом саде». Как пророчество тех своих последних сказанных слов… И эту последнюю ремарку Эфрос выполнил абсолютно точно в спектакле, хотя до этого просил не обращать внимания на ремарки, а играть иногда «наоборот» – чтобы уйти от штампов.
Судя по моим дневникам, мы работали невероятно быстро. И в какой удивительной рабочей форме был в то время Эфрос!.. От тех дней осталось ощущение праздника, хорошего настроения, бодрости и нежности друг к другу.
Весь июнь – репетиции с остановками. Кое-какие места спектакля чистятся и уясняются. В это же время – поиски грима и костюмов. Мне по эскизу должны были сшить дорожный корсетный костюм, который моя Раневская никогда бы не надела. Эфрос разрешил мне делать с костюмом что хочу. Левенталь, по-моему, этим недоволен, но его не было на репетициях, и он не знал моей стремительной пластики и закрученного ритма.
6 июня
Утренняя репетиция. В зале сидела Беньяш. Она многое не понимает, хотя ей нравится. Я репетировала в брюках – она не могла понять почему, а для меня на этом этапе неважно, главное – чтобы уложился внутренний рисунок. Да и репетиция была в основном для ввода Высоцкого. Поражаюсь Высоцкому…
7 июня
Черновой прогон «Вишневого сада». Эфрос первый раз сидел в зале. Потом – замечания. После репетиции Высоцкий, Дыховичный (он играет Епиходова) и я поехали обедать в «Националь»: забежали, второпях поели, разбежались, заражаюсь их ритмом. Мне это важно для «Вишневого сада». Я ведь домосед-одиночка, а Раневская совсем другая. Правда, мне не привыкать играть роли, не похожие на меня, но чтобы до такой степени, когда во мне нет ни одной черточки той Раневской, какую предлагает играть Эфрос! Полагаюсь на свое чутье и безошибочность Эфроса.
Высоцкий быстро учит текст и схватывает мизансцену на лету, к Эфросу нежен и внимателен. Хорошо играет начало – тревожно и быстро. После этого я вбегаю – мой лихорадочный ритм не на пустом месте. Если до моего выхода хотя бы ритмом не закручивается первый акт – я сумасшедшая, мои резкие перепады вычурны. Как легко играть после монолога Лопахина – Высоцкого в III-м акте! Подхватывай его ноту – и все. Легко играть с Золотухиным. Его, видимо, спасает музыкальный слух – он тоже копирует Эфроса. Наша сцена с Петей в III-м акте проскакивает, как по маслу. Жукова – Варя, по-моему, излишне бытовит – и сразу другой жанр, другая пьеса. Не забывать, что Чехов – поэт. «Стихи мои бегом, бегом…» Главное – стремительность. После репетиции, как всегда, замечания Эфроса.
Ознакомительная версия.