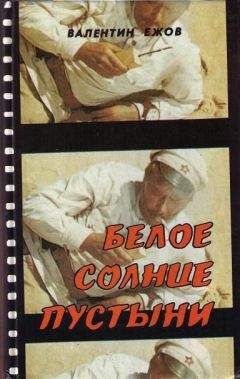Ознакомительная версия.
Бутылка шампанского, брошенная Владимиром Мотылем в борт баркаса, на котором должен был вступить в схватку с басмачами и погибнуть доблестный Верещагин, разбилась лишь с третьего раза.
Мотыль тут же предсказал трудное прохождение фильма в курирующих инстанциях – в худсовете «Мосфильма», в Госкомитетах по кинематографии РСФСР и СССР. Предсказание режиссера сбылось полностью – «Белое солнце пустыни» имело трудную предэкранную судьбу…
Как истолковал это первое событие Павел Борисович Луспекаев, осталось неизвестным. Можно только догадываться – как…
Съемка была в разгаре, когда атмосфера вдруг начала сгущаться, темнеть, пока не наступил полный мрак. Диск солнца сделался черным. Тут кто-то вспомнил, что по радио предупреждали о солнечном затмении.
В дополнение к предсказанию Мотыля кто-то пошутил, что в мозгах чиновников комитетов сначала потемнеет, а потом посветлеет, и с фильмом все будет в порядке. Сбылось и это шутливое предсказание, с одной лишь, впрочем, существенной поправкой: посветлело не только в мозгах чиновников комитетов, но и в мозгах самого Мотыля, ибо многое в «придирках» к его творению было вполне справедливым, позитивным, как нынче выражаются. Сумев признать это, режиссер сумел донести фильм до блистательного завершения…
Павел Борисович отмолчался и в этот раз.
Когда меняли отработанную точку съемки на следующую, все тот же Мотыль поймал боковым зрением какой-то странный блестящий объект дискообразной формы, то стремительно перемещавшийся над территорией, прилегавшей к месту съемки, то зависавший над нею. Съемочная группа чутко воспринимает перепады в настроении режиссера-постановщика, особенно если он наделен сильным волевым характером. Первая реакция – что случилось? Чем шеф недоволен?.. Так было и в этот раз. Проследив за изумленным взглядом Владимира Яковлевича, все участники съемок зафиксировали то же самое, что немного раньше зафиксировал он.
Толковать это событие никто не рискнул. Записные материалисты, ревнители прописных истин назовут стечение трех обстоятельств, столь разительно отличающихся одно от другого, разумеется, случайным, а попытку автора усмотреть в нем некий потаенный смысл вздором. История культуры, однако, щедра фактами, свидетельствующими об особенной – мистической – судьбе многих шедевров литературы и искусства. Укажем хотя бы на сложную, далеко не завершившуюся еще судьбу «Тихого Дона» или Янтарной комнаты. Так почему бы такому шедевру кинематографа, как «Белое солнце пустыни», не обрести похожую судьбу? И не полезней ли вопреки наивному желанию отмахнуться, поразмыслить, что пытается втемяшить в наши ленивые головы Всевышний через явленные им события? А ведь пытается же!..
По издавна заведенной традиции «первый кадр» полагается «омыть». Суеверные киношники, каким бы трезвенником кто ни оказался, не осмеливаются нарушить эту традицию. Не нарушила ее и съемочная группа «Белого солнца пустыни». Ритуал, освященный многими поколениями кинематографистов, состоялся в просторном номере Мотыля. Не только Инна Александровна и юный Годовиков заметили, что в начале «омывки» Павел Борисович был задумчив, сосредоточен в себе и мрачен.
Работа съемочной группы Мотыля и Розовского организована была сравнительно четко. Здесь не допускалось вмешательство в работу режиссера с актерами кого бы то ни было, – нередкое явление в группах слабых режиссеров, – даже оператора. На съемочной площадке Мотыля – Розовского каждый занимался своим делом. Вздорного «светляка», вздумавшего бы во время работы выяснять справедливость существующих трудовых отношений, здесь немедленно вернули бы в Питер – пусть профком киностудии растолкует ему, что к чему.
Отличную организацию съемок оценили и местные жители, нанятые в качестве подсобной рабочей силы.
Эдуард Александрович Розовский любил и уважал актеров. А любя и уважая, делал все от него зависящее, чтобы облегчить их тяжкую ношу.
Определяя, например, фокусировку объектива на протяжение всей предстоящей актерской мизансцены, он пользовался услугами своих помощников, давая актерам возможность отдохнуть. И свет выставлял так же, лишь поправляя его, когда актер занимал свое место в кадре.
Так же вел себя и главный художник фильма Валерий Петрович Кострин. При организации кадра часто требуется оперативная поправка декорации. Причем делать это надо так, чтобы она не «заплясала» в эпизоде – в одном кадре стоит так, а в следующем этак. Валерии Петрович вносил поправки настолько продуманно, что их ощущала лишь операторская группа, да и то потому, что трудилась в теснейшем с ним согласии.
Подлинным мастерам своего дела нет нужды демонстрировать свою власть…
Все это, конечно, лишь облегчало положение артиста. Но готовность к работе оставалась у него стопроцентной. Человек, случайно оказавшийся на съемочной площадке, ни за что бы не догадался, как ему трудно.
«Часто после команды «мотор», – свидетельствует Мотыль, – могло показаться, что страдания его уходили. Он был жаден на дубли. Если оставалось малейшее сомнение в сыгранном, – как бы долго ни длилась съемка, какая бы ни стояла жара».
Какой ценой оплачивалась такая «жадность», знали не все. «Однажды, после команды «Стоп! Снято!» Павел Борисович оперся на мое плечо и тихо сказал: «Пойдем к морю», – вспоминал Николай Ильич Годовиков в упоминавшейся уже беседе. – Мы вышли на берег, сели у самой воды. Я помог ему снять сапоги и протезы. Он сунул свои культи в воду и замер, сомкнув веки. По снулым щекам его текли слезы. Мне стало тяжело, неудобно, но оторвать от него взгляда я не смог. Я был как под гипнозом и готов сделать все, чтобы ему не было так больно. Вдруг он очнулся, резко повернулся ко мне, строго посмотрел в глаза и сказал: «Ты этого не видел! Не было этого! Пошли купаться».
Как более тридцати лет тому назад, так и теперь Николай Ильич уверен, что Павел Борисович скрывал свои мучения, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, не отягощать окружающих постоянным выражением сочувствия. Это, разумеется, так, но не совсем. Утративший по инвалидности работу в театре, артист не мог, естественно, не испытывать опасений за свое будущее в кино. Далеко не каждый режиссер рискнет пригласить актера, даже очень хорошего, от состояния здоровья которого зависит, будет фильм сдан в срок или не будет. Ведь задержка с запланированным сроком сдачи неизбежно повлечет за собой лавину административных репрессалий, самая неприятная из которых – вычеты из постановочных.
Так что запрет Павла Борисовича Николаю Годовикову не распространяться о его мучениях понятен в полном объеме.
Как и его старший товарищ и друг, юный Годовиков был «жаден» на дубли, хотя, разумеется, не всегда осмеливался попросить лишний – не тот, как говориться, авторитет. И так же, как Павел Борисович, любил сниматься без репетиций – им обоим требовалось лишь подробно обговорить сцену, прояснить ее психологическую подноготную и напомнить, какой эпизод будет перед снимаемым, а какой после… Это сближало актеров – начинающего и находящегося в полном расцвете творческих возможностей – еще больше.
А тоска о театре преследовала Павла Борисовича постоянно и с нарастающей силой. Однажды Коля Годовиков, которого Инна Александровна, вынужденная вернуться в Петербург, так как начинался новый учебный год и надо было собирать в школу Ларису, попросила присмотреть за оставляемым мужем, стал невольным свидетелем такой сцены: сидя у себя в номере, Павел Борисович твердил: «Ну за что? Я ведь могу, могу?!.»
Минуты тоски и отчаяния проходили, и Павел Борисович просил «Петруху» позвать одного гитариста из местных жителей, с которым они познакомились на съемочной площадке. Гитарист охотно принимал приглашение, и тогда весь этаж, на котором расположен был люкс Луспекаева, слушал его задушевное пение. «Пел он, – как не слишком оригинально констатирует Николай Ильич, – сердцем… Он очень полюбил песню Окуджавы «Ваше благородие» и мог петь ее сотни раз в день. При этом, не замечая иногда, что из его глаз катятся слезы. Мне и тогда казалось, а теперь я в этом уверен, что в такой миг дядя Паша пел о себе».
Владимир Яковлевич Мотыль добился для Луспекаева высшей оплаты за один съемочный день – семьдесят рублей. Деньги по тому времени баснословные. Для сравнения скажем, что месячная зарплата воспитательницы детского сада была сорок пять, а средняя зарплата инженера – сто десять рублей.
Словом, кошелек Павла Борисовича не пустовал, и поскольку строгий женский контроль, осуществлявшийся до этого Инной Александровной, отсутствовал, а денег он никогда не жалел, то и частенько «разрешал» себе – не в ущерб делу, конечно. Гитарист был мусульманин, но ради хорошей компании, да и хозяин был наполовину кавказцем, и он «принимал на грудь»…
Едва ли не каждодневные эти бдения, часто затягивались за полночь. Страшась остаться в пустом номере наедине с изнуряющей бессонницей, Павел Борисович затянул бы их до утра, до того часа, когда нужно отправляться на съемки, но Коля, утомленный событиями минувшего дня, частенько засыпал прямо за столом, прильнув щекой к прохладной лакированной столешнице, а гитарист обязательно уходил незадолго до полуночи, ссылаясь на родителей, жену и детей, ждущих его дома, и являя собой как бы живой упрек Павлу Борисовичу, честно считавшему себя неважным семьянином.
Ознакомительная версия.