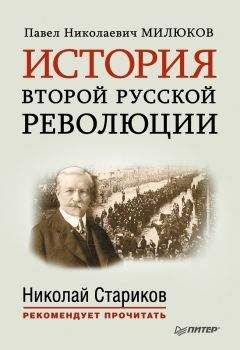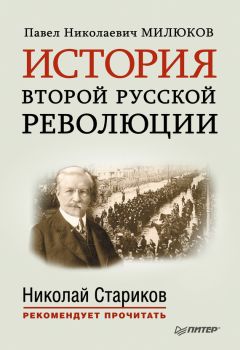Итак, «Сократ» вышел. Тогда же я понял, что нужна вторая пьеса. Сократ — символ философии, но был в античные времена и другой символ философии, очень загадочный — Сенека. Наверное, никто не написал столько великих афоризмов о нравственности, о праведной жизни… И этот радетель нравственности и морали умудрился быть не только воспитателем, но и главой правительства величайшего убийцы Нерона… Символ мудрости и морали долгое время был рядом с символом убийств и насилия. Это казалось таким загадочным великому писателю в XVIII веке. Но в моем XX веке это представлялось абсолютно нормальным, даже обычным!
Весь XX век знаменитые интеллектуалы сотрудничали с самыми страшными режимами и находили себе те же оправдания, которые за две тысячи лет до них придумал Сенека: «Лучше рядом с кровавым деспотом буду я, чем кто-то такой же страшный, как он… Может быть, я сумею его изменить!»
Это было самооправданием Сенеки, когда он покрывал убийства Нерона… не понимая, что каждый компромисс неотвратимо приближает его к собственной гибели. Ибо тоталитарная власть не терпит Мысли.
Мысль — ее главный враг.
И, как интеллектуалы в XX веке, отчаявшись изменить державного Палача, Сенека пытается убежать в отставку. Он провозгласил: «Кто борется с обстоятельствами, тот становится их рабом». Он мечтает, чтобы Нерон его забыл. Но у его воспитанника хорошая память. И разрешает он лишь выбор — служить ему или умереть.
В этой пьесе я часто цитировал подлинные слова Сенеки о тогдашней римской жизни. Но как удивительно знакомы эти слова! Это все те же нынешние возмущенные причитания о жизни в большом городе, о дурной экологии.
«Посмотрите на Тибр. Там же плавает невесть что… А Рим? Там же дышать нельзя. Все пропитано дымом кухонь… А шум!! Сколько рук здесь стучит по меди, сколько глоток орет во все тяжкие». И так далее!
А суровые обличения нравов модных римских курортов?! «Ночью меня будят крики с озера — там до утра раздаются визг женщин и похабные крики мужчин. Да, наши замужние Пенелопы недолго носят на курорте в Байях свои пояса верности».
И этот его восторг по поводу технических достижений века! Он пишет о том, как «ужасно жили наши прадеды и деды». Они умирали от холода. «А теперь в домах наших по трубам течет теплая вода, и в доме зимой так же тепло, как летом на улице»… А изобретение стенографии! Оно кажется Сенеке чудом, таким же глобальным переворотом, как нам — Интернет. Он не устает восторгаться эпохальным достижением: ведь наконец-то руки смогут поспевать за проворством языка! И теперь речи мудрых на Форуме останутся запечатленными навечно.
Далекий голос Сенеки, оставшийся в его письмах, твердит нам банальную мысль: люди всего лишь переодевались. Менялись времена, но не менялись пороки. И с течением времени холмик человеческой нравственности оставался прежним, жалким; росла лишь вавилонская башня новых технологий. И стрела христианства улетела безнадежно далеко от топчущегося на месте языческого человечества. И оттого все искания светлого будущего, все мудрствования оборачивались колючей проволокой лагерей. И все революции кончались фразой, произнесенной тысячи лет назад в Древнем Египте: «Колесо повернулось — те, кто были внизу, оказались наверху». Всего лишь.
Неизменной осталась только истина статистиков — «из каждых ста человек умирает ровно сто».
Слова, которые любил повторять Бернард Шоу.
Но я не хотел, чтобы все эти извечные размышления стали главным в спектакле. Я не хотел, чтобы это была история о Нероне и Сенеке. Это должен был быть ТЕАТР времен Нерона и Сенеки. Ибо помешанный на лицедействе Нерон превращает в театральный фарс всю римскую жизнь. Проститутка объявлена символом целомудрия, мальчик объявлен девочкой, чтобы Нерон смог на нем… то есть на «ней»… жениться. Римский аристократ-сенатор объявлен породистым жеребцом. И за все это покорно голосует символ народовластия — римский сенат. А внизу, в подземелье, пируют гладиаторы, которые завтра погибнут на арене. Но сегодня, в продолжение театра, они объявлены на одну ночь царями, и там, в подземелье, идет непре-кращающаяся оргия.
У этого театра есть режиссер — Нерон.
И в этом театре смерти он и решает поставить пьесу о жизни. О жизни двоих — его и Сенеки. Готовый играть себя, он заставляет и моралиста Сенеку играть самого себя.
Вот об этом и была эта пьеса.
К сожалению, я не мог отдать Эфросу ни «Сократа», ни «Нерона».
Все эти годы Эфрос мучительно выживал.
Доходило до анекдотов. Он поставил «Ромео и Джульетту». Спектакль был признан «излишне пессимистическим». На заверения самого Шекспира: «Нет повести печальнее на свете…», — ответ был обычный: «Только не надо демагогии!»
Социалистическое искусство хотело быть радостным.
Эфрос поставил замечательные «Три сестры». После чего с трибуны партийного съезда актриса МХАТ, народная артистка С., как бы от имени театра Чехова, обличила вредный спектакль.
Я не собирался осложнять ему жизнь. Я отдал обе пьесы Гончарову — в Театр Маяковского.
И Нерона, как и Сократа, играл Джигарханян. Армен был великолепным Сократом. Все-таки мудрость — дитя Востока.
Что же касается Нерона… Гончаров правильно угадал. Конечно же, Джигарханян рожден играть диктаторов. Но Джигарханян — восточный диктатор. Восточный диктатор — повелитель медлительный, величественный и кровавый. В нем — тайна, сдержанность барса перед прыжком. И когда он играл Нерона, вспоминались слова о Сталине: «Горе тому, кто станет жертвой столь медленных челюстей».
Я понимал мысль Гончарова — он отсылал зрителя к Сталину. Но мне она казалось сомнительной. Ибо Нерон — это западный диктатор. Мистик, декадент, неистовый неврастеник… Это Гитлер, не Сталин.
Я уверен, что Джигарханяну надо было играть Сенеку. Это была бы его великая роль. И тогда история двух философов, так по-разному живших и все-таки одинаково погибших от насилия, — стала бы куда яснее.
Мысль всегда наказуема — толпой или диктатором.
На один из премьерных спектаклей «Бесед с Сократом» Гончаров пригласил Эфроса. У них были прекрасные отношения. Гончаров всегда замечательно говорил о нем.
Эфрос посмотрел спектакль. Спектакль в тот день, как обычно, имел успех. После спектакля именитые приглашенные стайкой потянулись поздравлять — в весьма гостеприимный кабинет Гончарова.
Эфрос тоже пошел поздравить… но не смог.
Он стоял в стороне со страдальческим лицом. Он очень хотел сказать: «Понравилось». Но… так и не открыл рта. Для него пафос гончаровского спектакля был невыносим.
Придя домой, он мне позвонил. Он яростно ругал спектакль: «Так надо ставить тысячелетнего Еврипида! Точнее, и его не надо так ставить! Это — опера!»
И одновременно, воистину, очень мучался, не обиделся ли Гончаров на его молчание. После чего тотчас рассказал свой спектакль:
— Понимаете, в Афинах холодная зима… Ветер… Все в теплых хитонах… И их норовит поймать у портика храма полузамерзший, в рваном хитоне маленький старичок… И торопливо… боясь, что, как обычно, они убегут от него… начинает приставать к ним со своими поучениями-монологами, ежась от пронзительного холодного ветра…
Все это было удивительно интересным. И с тех пор, даже отдавая пьесу в другой театр, я обязательно давал ее ему прочесть.
Желание вернуться к Эфросу? Конечно, не покидало. Не покидало и ощущение, что желание — тщетное. Слишком, повторюсь, нелегкая была у него ситуация.
И следующая пьеса, которую я написал, вряд ли бы ее облегчила.
Пьеса называлась «Турбаза». Место действия показалось мне символическим. Древний монастырь. После революции он стал тюрьмой, во время войны стал крепостью, а сейчас — турбазой. Осталось старинное кладбище с гранитными памятниками. На одном из них — знаменитая надпись, скопированная из петербургского Некрополя:
Прохожий, бодрыми шагами
И я ходил здесь меж гробами,
Читая надписи вокруг,
Как ты мою теперь читаешь.
Намек ты этот понимаешь?
Так до свиданья, друг.
Но, чтобы не пугать туристов, монастырское кладбище уничтожили — его превратили в волейбольную площадку. Крест со знаменитого когда-то храма сдали в «Утильсырье» — в фонд помощи «героическому народу Вьетнама, сражающемуся с американскими агрессорами». В братском корпусе монастыря — общежитие ткачих местной ткацкой фабрики. И главную достопримечательность, часовню Голгофу, закрывают на ремонт, чтобы оборудовать в ней склад.
… На турбазу приезжает группа интеллигенции. Узнав про ремонт часовни, они постоянно и нудно острят: