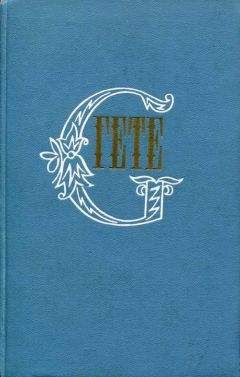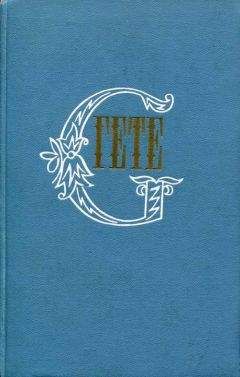ГЕРМАН И ДОРОТЕЯ
«Я не видал, чтобы рынок и улицы были так пусты.
Будто метлою прошлись по городу нашему, будто
Вымер он… Жителей в нем и полсотни, кажись, не осталось:
Что любопытство творит! Полетели вперед, как шальные.
Чтобы хоть глазом взглянуть на обозы беженцев бедных.
Добрый час до пути, где печальные тянутся фуры,
Но устремилась толпа, задыхаясь от зноя и пыли.
Я же с места не сдвинусь, чтоб видеть злосчастную долю
Честных людей, принужденных тащиться с добром уцелевшим.
Бросив родные места за Рейном, к нам перебраться,
В мирные наши углы, и по этой цветущей долине
Путь совершать, повинуясь изгибам ее прихотливым.
Ты поступила похвально, жена, что по добросердечью
С сыном послала одежду, а с ней кое-что из съестного
Людям, попавшим в беду. Пособлять — добродетель имущих.
Ишь, как малец покатил, как славно правит конями!
Знаешь, неплох шарабан! Новехонек, прочен, удобен.
Четверо в нем поместятся да спереди кучер на козлах.
Нынче один он поехал и тут же свернул в переулок»,—
Так, опустясь на скамью у дома, насупротив рынка,
Молвил супруге довольный хозяин «Льва золотого».
И отвечала хозяйка разумно и простосердечно:
«Я расстаюсь, муженек, неохотно с тряпицею каждой.
Мало ль что может случиться — ее и за деньги не сыщешь,
Ежели надобность будет. Сегодня ж с открытой душою
Много я собрала рубашек и старого платья.
Нитки живой, говорят, на тех бедняках не осталось.
Я повиниться должна. Ведь кое-чего не хватает
И у тебя в гардеробе… Хотя бы халата из ситца
В пестрых индийских цветах, на фланелевой теплой подкладке.
Знаешь ли, он прохудился и стар, да и вышел из моды».
Но отвечал, усмехаясь, жене добродушный хозяин:
«Все-таки жаль мне халата: хоть старенький был он, признаться,
Да настоящий, индийский. Такого теперь не достанешь.
Бог с ним, его не носил я. Ведь нынче хотят, чтоб мужчина,
Встав, надевал сюртук, в длиннополый кафтан наряжался,
Ногу сжимал башмаком — не в чести колпаки и пантофли».
«Глянь, — возразила жена, — уже возвращаются люди
С гракта большого. Должно быть, обозы проехали дальше.
Как башмаки у всех запыленны! Как раскраснелись
Лица… Бредут, отдуваясь, фулярами пот утирая.
Нет уж, так далеко, да в жару, на зрелище это
Не побегу я глазеть. С меня и рассказов довольно!»
Многозначительно глянув, в ответ отозвался хозяин:
«Ну, не скажи! Погода отменная нынче для жатвы,
Хлеб мы сухим уберем, как сухим недавно убрали
Сено. На́ небе ясном и тучки нет на примете.
И спозаранку хлеба ветерок овевает прохладный.
Установилась погода. Пшеница наша доспела.
Завтра снимать урожай мы примемся, с помощью божьей».
Так говорил он; меж тем обыватели шли через рынок,
Всё прибывая в числе, по домам растекаясь неспешно.
Вот и сосед с дочерьми пересек оживленную площадь,
Резвых коней осадив у ворот подновленного дома,
Наискосок от трактира. Купец богатейший в округе,
Ехал он в легкой коляске (ландауской чистой работы).
Людными улицы стали, то был городок населенный.
Много в нем фабрик имелось, ремесла в нем процветали.
Так у ворот сидела чета, благодушно толкуя,
Острым словечком порой забавляясь насчет проходящих.
Тут обратилась к супругу хозяйка достойная, молвив:
«Видишь, пастор идет, а с ним и почтенный аптекарь,
Добрый сосед наш. От них до подробности все разузнаем,
Что им увидеть пришлось и что видеть не радует сердца».
Дружески оба они подошли и чете поклонились,
На деревянную лавку под вывеской самой присели
Пыль с башмаков отряхнуть, обмахнуться платками от зноя.
После приветствий взаимных аптекарь, молчанье нарушив,
С видом достаточно хмурым взглянул на прохожих и начал:
«Люди всегда таковы. Меж ними различья не вижу —
Рады пойти поглазеть, если с ближним беда приключится.
Каждого тянет взглянуть на свирепое пламя пожара
Или потешиться страхом преступника, ждущего казни,
Так вот любой и нынче бежит поглядеть на несчастье
Беженцев бедных, а сам-то и в мыслях того не имеет,
Что испытаньям таким подвергнется тоже, быть может.
Грех столь беспечным быть, но это сродни человеку».
Но возразил благородный и мудрый священнослужитель,
Юноша, близкий к поре возмужанья, города гордость,—
Жизнь он познал глубоко, разглядел ее скрытые нужды
И, просветленный высоким значеньем Святого писанья
(Этим ключом к помышленьям и судьбам существ человечьих),
Также изрядно знал и лучшие книги мирские,—
Он-то и молвил: «Не слишком суров я к стремленьям невинным,
Коими добрая матерь-природа людей наделила:
Разуму и пониманью порой нелегко подступиться
К сути вещей, до которой доходим наитьем счастливым;
Если бы не любопытство с его притягательной силой,
Разве б открыл человек чудесное соотношенье
Разных частей мирозданья? Сначала он к новому рвется,
После — полезного ищет с прилежностью неутомимой
И, наконец, приходит к добру, свой дух возвышая.
В юности спутник веселый — беспечность — пред ним заслоняет
Близящуюся опасность, врачует любые недуги,
Ранам несет исцеленье, лишь горе от сердца отляжет.
Ясно, того предпочтешь, кто сумел в дальнейшие годы
Этой веселости духа разумное дать постоянство
И к своему неослабно стремиться в счастье и в бедах,
Горечь утрат возмещая вовек нескудеющим благом».
Пастора мягко прервала, томясь нетерпеньем, хозяйка:
«Что там видали — скажите? Об этом узнать я хотела!»
«Трудно мне будет, — ответил с внушительной миной аптекарь,—
После того, что я видел, вернуться к веселости прежней,
Разве кто сможет поведать о разнообразных мытарствах?
Мы еще в дол не спустились, как стала видна в отдаленье
Пыль над проселком. Чредой от холма до холма бесконечно
Фуры тянулись. В пыли ничего различить не могли мы.
Только достигнув дороги, впродо́ль прорезавшей долину,—
В гуще возов и людей мятущихся мы очутились.
Много еще перед нами прошло горемык бесприютных,
Здесь-то мы и узнали, как тяжко и горько изгнанье
И до чего хорошо сознавать, что жизнь уцелела.
Больно было, друзья, смотреть на скарб всевозможный.
В доме его не приметишь, затем что добрый хозяин
Все порасставит умело да с толком, чтоб каждая мелочь
Сразу была на виду, — все будет на пользу, сгодится,—
Нынче, любуйся, все это нагромождено на подводы,
Без толку, как приведется, накидано в бегстве поспешном!
Шкаф, а на нем решето с шерстяным одеялом в соседстве.
Выпер матрац из корыта, а зеркало под простынею.
Ах! Как мы видели это лет двадцать назад на пожаре:
Страх до того людей лишает ума, что нередко
Ценное бросят они, а безделицу из дому тащат.
Так же, глядишь, и теперь с неразумным усердием люди
Всякую рухлядь везут, лишь коней да волов утруждая:
Бревна гнилые да бочки, насесты для кур и кастрюли…
Женщины и ребятишки плетутся, под ношей сгибаясь,
Тащат узлы, кадушки, набитые хламом ненужным.
Да, человеку трудненько с последним добром расставаться.
Так, в беспорядке, в смятенье, дорогой знойной и пыльной,
Длинный тащился обоз: одни, на заморенных клячах,
Ехать шажком норовят, другие коней понукают.
Вдруг мы услышали вопли детей и женщин теснимых,
Рев и мычанье скота, вперемежку с лаем собачьим,
Охи и стоны больных, мольбы стариков, что высоко
Поверху всяческой клади мотались на жестких матрацах.
Ибо, свернув с колеи, телега в обочину ткнулась,
Резко скрипя колесом; накренилась вдруг и в канаву
Рухнула. В этот же миг людей, закричавших от страху,
Всех на дорогу швырнуло, но, к счастью, никто не убился,—
Вслед сундуки повалились, но ближе к подводам упали.
Впрямь показаться могло свидетелям дела такого,
Что горемычных бедняг сундуки и шкафы передавят.
Так-то сломалась подвода и на поле люди лежали,
Но прямиком остальные свой путь продолжали поспешно,
Общим потоком влекомы и лишь о себе помышляя.
Кинулись мы на подмогу — и видим: больные и старцы,
Те, для которых и дома страдания долгие были
Невыносимы, стеная, лежат на земле распростерты,
На солнцепеке полдневном, в сухой удушливой пыли».
Тронутый речью такой, отвечал сердобольный хозяин:
«Хоть бы их Герман нашел и помог им платьем и пищей.
Я б не хотел их видеть. Мне тяжко быть зрителем горя.
Только прослышав о нем, мы растрогались и, не помедлив,
Малую лепту от наших излишков отправили, чтобы
Помощь подать хоть немногим и этим себя успокоить.
Но для чего воскрешать картины печальные? Разве
Страх иль забота подчас и так не терзают нам душу?
Мне же такая напасть и самого зла ненавистней.
В комнату заднюю лучше пройдем, там, кстати, прохладно,
Солнце там не гостит и жарища сквозь плотные стены
Не проникает нисколько, а матушка полную чарку
Сорокалетнего нам принесет, чтоб забыться могли мы.
Здесь не успеешь и выпить, как мухи обсядут стаканы».
И удалились они и прохладой себя усладили.
Вот принесла им хозяйка вина стародавнего в темной
И засмоленной бутылке на цинковом круглом подносе,
Зеленоватые рюмки, в которых ренвейн золотится.
Чинно уселись втроем они за коричневый, прочный
Отполированный стол, приросший ножками к полу.
Звякнули рюмками тотчас сердечный хозяин и пастор,
Только аптекарь сидел, склонившись в раздумье глубоком.
И обратился к нему хозяин с приветливым словом:
«Ну-ка, сосед, отхлебни. Покуда нас от несчастья
Бог бережет и в своем милосердии не покидает.
Всяк согласится, что с дней приснопамятной кары господней,
Испепелившей наш город, к нам был благосклонен всевышний;
Нас он берег неустанно, как мы охраняем от порчи
То, что всего драгоценней, — зеницу нашего ока.
И неужели ж он впредь не будет к нам милостив также?
Только в опасностях мы познаем вседержителя силу.
И неужели ж тот город цветущий, который недавно
На пепелище возвел он руками граждан прилежных,
Вновь он сметет, чтобы прахом пошли все наши усилья?»
Бодро заметил на то примерный священнослужитель:
«Веруйте в господа твердо, пребудьте тверды в убежденьях,
Ибо и в счастье они укрепляют наш дух, а в несчастье
Нам облегченье несут, утешая прекрасной надеждой».
И отозвался на это хозяин разумно и веско:
«Как я глядел умиленно на волны могучего Рейна,
Если по сделкам торговым случалось к нему приближаться!
Мне он огромным всегда представал, мой дух возвышая.
Но не гадал я, не думал, что этот излюбленный берег
Вскорости валом послужит, чтоб сдерживать натиск французов,
Рвом защитительным станет его величавое русло.
Как ограждает природа, как немцы страну ограждают,
Так и господь оградит нас, — кто в этом дерзнет усомниться?
Всех утомила вражда, и чуется мир недалеко,
Эх, кабы только дождаться счастливой минуты, как в церкви
Колокола и орган в честь праздника с трубами вкупе
В хор сладкозвучный сольются, напеву вторя «Те Deum»;[11]
Рад бы я был, если б Герман в тот день предстал перед вами
У алтаря со своею невестою, пастор любезный,
Чтобы торжественный день, встречаемый всею страною,
Стал мне отраден вдвойне, как собственный праздник семейный.
Как-то неловко глядеть на взрослого парня, который
Дома всегда расторопен и боек, но робок на людях.
С ними якшаться ему, видать, удовольствия мало,
Даже девичьего круга чуждается он, равнодушный
К танцам изящным, юность влекущим к себе неизменно».
Так рассуждая, он слушал внимательно; вдруг издалека
Топот послышался конский, колеса вдали застучали,
И, грохоча, экипаж подкатил с разбегу к воротам.