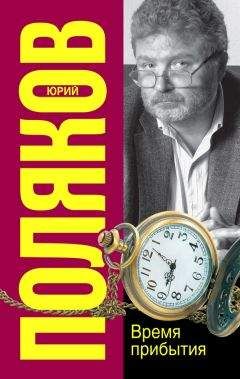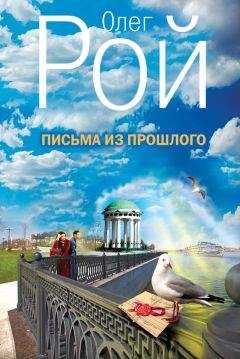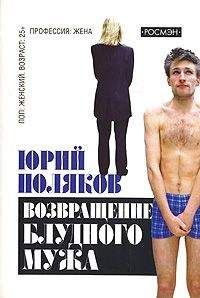Ознакомительная версия.
Советский человек существовал в двух мирах – в реальном, далеком от идеала, и в идеальном, далеком от реальности. Нельзя сказать, что эти два мира не были связаны – они постепенно, точнее, скачкообразно, сближались. И главную роль в этом сближении тогда играло искусство, прежде всего – литература. Именно в литературных произведениях обкатывались идеи и новации, прежде чем лечь в основу нового идеологического и экономического курса. Сначала – «деревенская проза», потом – постановление ЦК о возрождении Нечерноземья. Бывало, правда, и наоборот, но об этом чуть позже. И все же разрыв между реальностью и идеологическим мифом оставался велик. Когда человеку каждый день объясняют, что он живет если не в раю, то во всяком случае в предрайских кущах, столкновение с реальной жизнью ранит его особенно остро. Вы не задумывались, почему информационные блоки нынешнего телевидения перенасыщены негативной информацией? Кого-то взорвали, где-то замерзли, кого-то расчленили, кто-то проворовался, кого-то противоестественно изнасиловали… По сравнению с таким виртуальным миром сегодняшняя реальная жизнь не так уж и страшна. Радуйтесь, граждане! И еще одно наблюдение. Раньше на домах висели кумачовые плакаты: «Наша цель – коммунизм!» Мы посмеивались. А теперь? Вы за последнюю четверть века хоть раз слышали что-то конкретное о цели, к которой идет страна? Чего хотим? Что строим? Не для конкретного Иванова, Петрова, Абрамовича, а для всего общества? И это уже не смешно. В чем смысл нашего исторического существования? Какова сверхзадача нашей цивилизации? Сверхзадача американцев ясна: всех нагнуть. А наша? Об этом вы не услышите. Почему? Коммунисты слишком много обещали – на том и сгорели. Урок учли. Кто не обещает, с того и не спрашивают…
Русский человек, точнее, человек, воспитанный русской культурой, традиционно верит в целительную силу слова. Ему кажется, что, назвав зло своим именем, он нанесет ему смертельный удар. Вот почему с таким восторгом была встречена «гласность». Мало кто задумывался о том, что глас вопиющего пустыне – тоже вариант гласности, что есть разновидности зла, жиреющие именно от гласности. С другой стороны, советская власть, выстроившая систему табу вокруг многих, как тогда выражались, негативных явлений, забыла, что табу и запреты – методы скорее детской педагогики. Взрослому надо объяснять. Честно или лживо. А народ в результате просветительской деятельности той же самой советской власти повзрослел и поумнел. То, что в двадцатые годы принимал на веру рабфаковец с горящими глазами, позднесоветский «мэнээс» брезгливо отвергал. Ну как же – он читал Сартра и Булгакова! Но он позабыл, что такое братоубийство, разруха и нищета.
Не сталкивался он и с откровенным предательством интересов страны самой властью. Шестидесятники убедили его, что Сталин, расправляясь с троцкистами, тешил свою паранойю, а не очищал верхушку от возможных изменников. Вместе с явной ложью советской пропаганды отметал советский интеллигент и вещи совершенно очевидные. Не хотел верить в навязчиво разоблачаемую агитпропом агрессивность Запада. Страна, где народ не стоит в очереди за пивом, не может желать человечеству зла! Теперь, после бомбежек Югославии, онкологического разрастания НАТО, он, конечно, поверил. А после того, что наши «западные партнеры» устроили на Украине, подержав лютых «укропатов», превратив Донбасс в пепелище и поставив Россию в угол, как геополитического шалопая, сомнений в недобрых намерениях «империи Добра» ни у кого не осталось. А толку? Дело-то сделано.
Русская литература традиционно специализировалась на срывании масок и разрушении табу, нередко путая табу с национальными идеалами, которые лучше не трогать. Я тоже искренне считал здравый смысл и жажду правды выше овеянных веками святынь и возвышающих обманов. Я даже писал в «Огоньке», что не бывает правды очерняющей или мобилизующей – бывает просто правда, факт жизни, без всяких там эпитетов. Я ошибался. Я не понимал, что существует иерархия «правд». Для наглядности возьмите в руки матрешку. Вы никогда не вставите большую матрешку в меньшую. А вот большую правду можно при желании спрятать в меньшую. С этого, собственно, и начинается манипуляция сознанием. Простейший пример – возвращение Крыма. Малая правда в том, что Крым был украинским, а стал российским. Значит, аншлюс? Позор хищному северному медведю! Но большая правда заключается в том, что Крым всегда был российским, а в пятидесятые годы незаконно, даже с точки зрения советской процедуры, передан в административное управление Украинской ССР, входившей в Советский Союз. При развале страны полуостров не вернули России, хотя очевидно: выходить из СССР республики должны в тех границах, в каких вошли. А принадлежность территорий, «нагулянных» во время пребывания в «Красном Египте», надо решать с помощью референдума. Такой референдум и состоялся в Крыму в марте 2014 года, показав, что население единодушно хочет назад, в Россию. Это и есть большая правда. Интересует она кого-нибудь, кроме нас? Никого. Ее засунули в «малую правду» и не хотят знать.
Увы, я тоже не раз принимал «малую правду» всерьез, верил, горячился. Но если бы я не ошибался, я бы никогда не стал писателем. Писательство – преодоление собственных заблуждений. Кто не заблуждается – тот не творит. Осознанная ошибка – самый прямой путь к истине. Ничто так не обостряет творческие способности, как стыд за свои заблуждения. Но беда в том, что именно ложные истины чаще всего отливаются в бронзе и пишутся на знаменах, ведущих людей на разрушение надоевшего миропорядка. Потом можешь обораться, объясняя, что ошибался. Твоя ошибка давно уже стала правдой момента. Думаю, если бы Солженицын сжег себя на Красной площади в знак протеста против тиражирования его давних заблуждений о десятках миллионов жертв ГУЛАГа, никто бы не заметил, продолжая ссылаться на «Архипелаг» как на документ. Но Александру Исаевичу и в голову не пришло извиниться за свою обидную для нашей страны цифирь.
Да, писатель – по своей природе мифоборец, именно поэтому, особенно смолоду, он жаждет разрушать мифы, которые навязывает ему общество. Мифы и каноны. А советский писатель был опутан канонами с головы до ног. Это не значит, что западный писатель ничем не опутан – там другие путы. Писатель с нормально развитым нравственным чувством всегда подсознательно чует разрушительную природу своего дарования и потому – в противовес, что ли, приходит со временем, как правило, к консервативным политическим убеждениям. Но стоит ему начать художественно утверждать существующую систему социальных мифов, как все заканчивается творческой катастрофой. Такой вот грустный парадокс…
Анализируя судьбу моих первых трех повестей, я думаю иногда вот о чем. Повинуясь внутреннему велению, я (как и некоторые другие мои ровесники-писатели) достиг края советской литературы и выглянул вовне – дальше начинался уже совсем иной мир, строящийся на других принципах и идеях. В отличие от обитателей литературного андеграунда я оставался по мироощущению и поведению не только советским человеком, но и советским писателем. Но какая-то неведомая сила все же толкала к зыбкой грани. Мои первые повести – это еще советская литература, но в них уже есть недопустимая для советской литературы концентрация нравственного неприятия существующего порядка вещей. Возможно, именно такая двойственность и нашла отклик в душах читателей, тоже балансировавших на грани перемен. Мои настроения были им близки и понятны. Мы оказались единомышленниками.
Мудрый Сергей Михалков когда-то давно, поддерживая меня в борьбе за публикацию «Ста дней…», сказал в своей обычной насмешливо-серьезной манере кому-то из партийного начальства:
– Вы с Поляковым поаккуратнее. Он последний советский писатель…
Особенно пристально власти предержащие надзирали за соблюдением канонов, когда дело касалось основ общества, а к их числу принадлежали, безусловно, сама власть, школа, армия…
О них-то я и написал свою раннюю прозу.
В армию я попал осенью 1976 года после окончания педагогического института, поработав в вечерней школе № 27 на Разгуляе. Кажется, раньше там была гимназия. Кстати, именно в этой части старой Москвы прошли первые двадцать лет моей жизни. Из Лефортова, из роддома окнами на Немецкое кладбище, я был привезен в дом на Маросейке возле памятника героям Плевны, в огромную коммунальную квартиру. Комнатку занимали я, мои родители, бабушка и тетя, незамужняя сестра отца. Единственное окно было в потолке и выходило на чердак. Младенческая память сохранила цветастую занавеску, отделявшую наш семейный угол, и это запыленное окно, по которому время от времени метались тени. Большая тень – кошка, маленькая – мышка. Сейчас, ругая «совок», ставят в упрек эту коммунальную скученность чуть ли на наравне с ГУЛАГом. Но в подобных условиях тогда жило большинство москвичей и считало такой быт нормой. Вспомните у Булгакова: не последние люди – директор варьете и руководитель Массолита – тоже живут в «коммуналке» и не жалуются. Потом родители «улучшились»: получили комнату в заводском общежитии маргаринового завода в Балакиревском (Рыкунове) переулке, рядом с товарными путями Казанской железной дороги – «Казанки». Очередь в туалет и к умывальнику была обычным делом, а когда нам дали комнату побольше, со своим умывальником, – это казалось головокружительным комфортом, вроде президентского номера в отеле. Соседские мальчишки нам завидовали – свой водопроводный кран! Лишь в 69-м мы переехали в отдельную квартиру у станции «Лосиноостровская», окрестности которой в ту пору были застроены деревянными теремами – остатками дореволюционного дачного Подмосковья.
Ознакомительная версия.